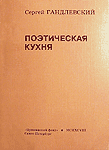
СПб.: Пушкинский фонд, 1998.
(Серия "Зеркало")
ISBN 5-89803-006-9
С. 46-51
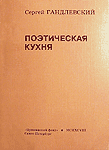 |
СПб.: Пушкинский фонд, 1998. (Серия "Зеркало") ISBN 5-89803-006-9 С. 46-51 |
I ...Стихи стихами, но от поэта остаётся ещё и манера авторского поведения. И здесь, думаю, Бродский оказал поэтическому цеху большую услугу. Теперь есть прецедент абсолютной независимости. II...Постмодернизм сейчас понимают, главным образом, как некий творческий метод, который может нравиться или не нравиться, и ему поэтому можно следовать или не следовать. Для меня постмодернизм - не школа и не метод, а современное умонастроение и мироощущение, т. е. данность более широкая, чем писательский или какой ещё способ самовыражения. Нельзя одобрять или не одобрять море, климат и т. д. Этот набор данностей просто следует принять к сведению, чтобы время от времени не попадать в смешные и глупые положения: не пытаться купить билеты на поезд в Австралию и не строить соломенную хижину на Чукотке.Один товарищ рассказал мне, что был на литературном чтении, где известный прозаик выступал в одной программе с В.Сорокиным. Участие имитатора (именно имитатора, а не пародиста) свело на нет весь пафос серьёзной и, что называется, «выстраданной» прозы. Через несколько минут этого параллельного чтения публика не могла взять в толк, кто из двоих авторов писал всерьёз, а кто - экспериментировал со стилем. Кто виноват? «Серьёзный» автор, конечно. Язык, который можно воспроизвести один к одному, - мёртвый язык. От латыни мы сюрпризов не ждём. Наш писатель проявил культурную невменяемость и подставился. Писать «на голубом глазу» всегда было не просто, но сейчас практически невозможно. Такое время. Оно не сложнее других, но его сложность - в этом. Чуткие к языковым изменениям авторы, владеющие живой и реальной речью, увеличивают коэффициент литературной рефлексии в силу самой чуткости, а не в угоду моде. Объективности ради я допускаю, что завтра кто-то придёт и напишет что-то могучее и простодушное, но верится с трудом. На это обычно возражают - и сам я до недавнего времени вторил : «Вот невидаль - литературная рефлексия! У Пушкина её, что ли, не было, у Стерна?» - Была. Где-то я прочёл, что Эразм Роттердамский умер, судя по симптоматике, от СПИДа. Но эпидемия-то СПИДа - сейчас. (А тогда, кстати, чума косила.) Видимо, всё на свете существует до поры в свёрнутом виде. Но развёртывается вполне то одно, то другое. И красит каждую эпоху в определённый цвет. Есть теорема американского социолога Уильяма Томаса: «Если люди определяют некоторые ситуации как реальные, эти ситуации реальны в своих последствиях». Я не знаю, накликали мы постмодернизм на свою голову, или он сам на нас пал, как снег на ту же голову, но он - есть. Много чего есть. Вода, например. Мы же не молимся на неё и не проклинаем её. Мы умеем или учимся с ней обращаться. Её можно пить, но она же может попасть не в то горло, по ней можно плыть, но в ней можно и утонуть. Ходьба по ней была чудом. На чудо можно уповать, но из него, как правило, не исходят, строя планы на день. Тем более, когда вспоминают минувший день и видят, что в нём чуда не произошло, - а этим мы сейчас и занимаемся. Но, главное, вода, как и постмодернизм, - не метод, а стихия. А стихию нельзя безнаказанно игнорировать. Всё остальное допустимо. Но лишь только под постмодернизмом понимается метод, да ещё и передовой, у людей самых разных, но равно бесталантных, возникает соблазн овладеть правилами этого замечательного новаторства. Они ими быстренько овладевают, и возникает литературный процесс, рутина. А всякая рутина - зрелище унылое: будь она реалистической, романтической, символистской или постмодернистской. Рутинёры реализма культивировали сострадание к народу и критику строя, рутинёры постмодернизма вменяют себе в обязанность имморализм, релятивизм, бесстрастность. А между тем настоящие поэты, например, Лосев и Цветков, умудряются каким-то образом совмещать одобряемую жрецами постмодернизма иронию, цитатность, игровое начало и литературную рефлексию с пребыванием по эту сторону добра и зла и неложным пафосом. Поручик идёт в ногу, а рота не в ногу? Да, поручик. А прилежная рота перестаралась. (Стоящие поэты пишут нравственно не потому, что любят добро и хотят принести пользу - почём мы знаем? - а потому, что пишут талантливо. А дисциплинированные рядовые пишут безнравственные вещи не потому, что возлюбили зло и хотят принести вред - почём мы знаем? - а потому, что пишут неталантливо.) Так что речь сейчас идёт не столько о стихии постмодернизма, сколько о стихии идиотизма. Из пены вышеназванной необъятной стихии родилась богатая мысль о конце литературы. Ну, для девяти десятых этих мыслителей она бы кончалась и во времена Шекспира, и во времена Пушкина - »виноград зелен». Мы им скажем амфибрахий: плохому танцору и яйца мешают! А одарённые и думающие литераторы, сторонники этой идеи, не разглядели в ней, как мне кажется, вывернутую на изнанку идею прогресса в искусстве. Это всё, по-моему, гордыня: раз уж прогресса в искусстве нет, мы хотя бы свидетели его конца - «блажен, кто посетил сей мир...» Литература не кончилась, она просто трудна и всегда была трудна, но в разные времена по-разному. Словосочетание литературный кризис - это масло масленое. Искусство всегда тычется в тупики, выбирается из них одними ему ведомыми способами и набредает на новые. Это верно и для искусства вцелом и для отдельного деятеля - Иванова, Петрова, Сидорова. Синявский где-то написал, что писатель берётся за перо от сознания невозможности писательства. Сказать «спортивный кризис» - нелепость, всем очевидно, что серьёзный спорт и предполагает сверхусилия, а литература чем хуже? Или ежедневная жизнь. Мы избавляемся от одной напасти и оказываемся, спустя какое-то время, лицом к лицу со следующей. Нынешние проявления кризиса называются постмодернизмом, но вообще-то кризис - среда обитания литературы, он - хронический... 1996 г. |
| Вернуться на главную страницу |
Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
Сергей Гандлевский | "Поэтическая кухня" |
| Страница подготовлена Сергеем Карасевым. Copyright © 2000 Сергей Маркович Гандлевский Публикация в Интернете © 2000 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |