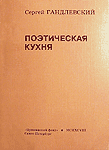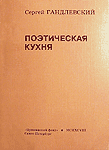(Ответы на вопросы Александра Гениса для цикла радиопередач «Подводя итоги» на радио «Свобода». Апрель 1997 г.)
Ваш манифест персональной поэтики.
Живёт такое существо: писатель. Он писатель ещё до того, как что-либо сочинил, ему так на роду написано. Результат его духовной жизнедеятельности - литературные произведения. Как результат жизнедеятельности шелкопряда - шёлковая нить. Но писатель - человек, разумное существо; задним числом он спрашивает себя, зачем всё это, почему меня от прочих людей отличает настойчивая тяга к словоизвержению?
Литература - замечательное общение, мы узнаём, что не мы первые, не мы последние плутали в этих трёх соснах: Шекспир, Пушкин, Толстой делятся с нами своими надеждами, опасениями, предположениями.
А раз искусство - общение, мы вправе рассчитывать на естественный и уважительный тон. То есть, говорите с нами на равных: не сюсюкайте - мы не дети; не заноситесь - у нас своя голова на плечах; не берите на испуг , не шокируйте - мы видывали виды; не развлекайте нас - на то есть конферансье и массовики-затейники. А проще всего, занимайтесь искусством, как Том Сойер забор красил, играя и заигрываясь, - тогда и мы не останемся равнодушными. Естественность - лучший способ уклониться от социального заказа, идейного диктата, групповой эстетики, присяги литературному течению.
Но возможен и другой взгляд - с метафизической точки зрения. Я убеждён, что искусство знает толк в истине. Не потому, что истина его заботит. Поэт может писать, чтобы охмурить девицу, или чтобы завоевать благорасположение сильных мира сего, или из честолюбия. Но если он действительно талантлив, само вещество стихов возьмёт своё, навяжет ему ритм, дыхание, интонацию - присущие Бог весть чему. Это звучит, возможно, завирально и гордо, но я пляшу от практики, а не от теории. Почему один порядок слов хорош, а другой - нет? Почему определённое настроение требует именно этого, а не другого стихотворного размера? Чем писатель руководствуется, выбирая? Вкусом, чутьём? К чему чутьём? По-моему, к дозволенному и недозволенному, к возможностям вселенной, её устройству. Так что талант, я думаю, это вовсе не своеволье, а подчинение какой-то внешней воле. Раньше это понуждение извне традиционно олицетворяли, приписывали «Музе». Сcылки на «Музу» давно стали поэтическим штампом, но существо дела от этого не меняется.
Как видите, «манифеста персональной поэтики» в узком смысле нет, но есть два ключевых понятия, осмысляющих творчество вообще: естественность тона, как путь к полноценному общению, и чуткость к гармоническим законам, в существование которых я верю.
Что для вас значит советская литература?
Ответ на этот вопрос будет отчасти совпадать с тем, что написал Андрей Синявский в своей работе о социалистическом реализме. Но только отчасти. Синявского раздражала, если память мне не изменяет, бескрылость соцреализма, озадачивало, что соцреализм врёт, да не завирается, что он только лжив, а не фантастичен вполне, что он не реализует шанс на полёт воображения. Я-то думаю, что соцреализм и не мог воспользоваться шансом на творческую свободу: он был не живым существом, а исчадием социальной лаборатории, выведенным с дидактически-дисциплинарной целью.
Возьмём более-менее естественное развитие и смену формаций в искусстве, как нас в школе учили: классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм и так далее. Мы сейчас не гадаем, почему они друг друга именно в таком порядке сменяли, но для меня очевидно одно: каждое из этих искусств в свою пору было чрезвычайно насущным, на проблематике каждого метода на какое-то время для лучших голов тех эпох просто свет клином сходился. Нас поэтому и волнует Расин, или Байрон, или Державин, что там много сердечного пыла, нервов, хотя сама проблематика, спровоцировавшая вдохновение и творчество, давно устарела. Не говоря уже о словаре этих писателей.
Так вот, ничего животрепещущего, никакой новости в соцреализме, то есть в советском классицизме, не было; это были зады классицизма. Культуру силой оставили на второй год и заставили делать вид, что её эти азбучные истины по-настоящему волнуют, обрекли на симуляцию. Приведу пример. Когда сейчас какой-нибудь эксцентрик плывёт вокруг света на паруснике, он понимает - и мы понимаем, - что он ищет острых ощущений, балуется, занимается спортом. Наверное, выручать близкого человека из беды он полетел бы на самолёте. А триста лет назад плавание на паруснике требовало полной отдачи сил, другого способа поспеть к месту вовремя просто не было. А в Советском Союзе всю официальную культуру пересадили на парусный флот, да ещё велели делать вид, что это самый современный способ передвижения. Ожидание эстетического риска, искренности, неложного пафоса, разумеется, при таком положении дел неуместны. Получился китайский карлик из кувшина, классицистическое противоречие долга и чувства выродилось в «первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки - потом...» Набоков сказал о советской литературе: «Мы возвращаемся к самым истокам литературы, к простоте, ещё не освящённой вдохновением, и к нравоучительству, ещё не лишённому пафоса».
То, что я говорю, не имеет никакого отношения к проповеди прогресса в искусстве: реализм, например, не выше романтизма. Но каждый из них был выражением духа своего времени, бескорыстным взглядом на мир. А социалистический реализм выражал не дух своего времени - его выражали каждый по-своему Маяковский и Бунин, Пастернак и Ходасевич, - а был полезен диктатуре, как дисциплинарная мера, был подавлением поиска, а не поиском. Я, правда, с удивлением обнаружил сталинскую архитектуру в Америке. Но там - на свободе - это одна из реализованных возможностей, наряду с другими. А в СССР всё официальное искусство плясало под кремлёвскую дудку.
Это - общие места, самое интересное другое. Оказалось, что искусство, в приказном порядке начав с давно пройденного этапа, - в данном случае с классицизма - воспроизводит, но пародийно историю искусства настоящего, насущного. На смену классицизму понарошку приходят такие же выморочные сентиментализм, романтизм, реализм. Какие-нибудь «Владимирские просёлки», песни КСП, сенсационные «честные» книги советских оттепелей. И это одновременно с существованием подлинного искусства - Платонова, например, или Набокова, - которое живёт и развивается за стенами утопической лаборатории.
Так что объективно - «советскими» писателями на поверку эстетикой окажутся многие субъективно порядочные и далеко не бесталантные люди. Только потому, что, по тем или иным причинам, они всерьёз и близко к сердцу приняли лабораторный советский культурный и литературный процесс и занимались творчеством под углом к нему, даже если изначальные побуждения были наилучшими: облагообразить советскую культуру, придать её лицу человеческое выражение и так далее. Я потому и избегаю приводить конкретные примеры, что пришлось бы называть имена людей, снискавших заслуженное общественное уважение, потрудившихся для смягчением нравов, принесших ощутимую пользу, правда, не на эстетическом поприще, а на социальном. Подцензурные «прогрессивные» писатели вместо того, чтобы идти вперёд, вели изнурительные арьергардные бои с казённой эстетикой. Я их не сужу - я не был на их месте и в их шкуре. Я им по-человечески сочувствую, и даже благодарен по-граждански: какой-то воздух они у режима оттягали для всех нас. Но с точки зрения искусства они ломились в открытые двери.
Из всего сказанного мною ясно, что я плохо отношусь к советскому искусству и не хотел бы иметь с ним ничего общего. От него можно получать очень специфическое маразматическое удовольствие, но для этого надо очутиться внутри него и принять к сведению его правила. Тогда можно оценить по достоинству чистоту работы, соответствие законам заявленного жанра, точность исполнения социального заказа, мастеровитость того или иного произведения - будь то производственный роман, фильм о спорте или интерьер станции метро.
Что такое по вашему мнению постсоветская литература?
Каждый из ваших вопросов настолько глобален, что остаётся только уповать на чувство юмора слушателей, которые, надеюсь, и отнесутся к нашему раговору как к игре ума, поверхностной поневоле. Мы как те русские мальчики Достоевского перекраиваем наскоро карту звёздного неба.
Чем ближе к современности вопрос, тем сложнее отвечать - «лицом к лицу...» и так далее. Мы свидетели триумфального планетарного шествия постмодернизма. Не знаю, где как, а в России для него была подготовлена плодородная почва. Только что я говорил, что советское официальное искусство ничего эстетически самостоятельного создать не могло: оно было стреножено идеологией, так сказать, знало ответ. Зато к услугам советского искусства была вся палитра эстетик прошлого, обильная контрабанда. Так что, как видим, попользоваться стилем без духовных затрат - это не постмодернизмом выдумано, была традиция и ещё какая! Сказанное, понятно, не единственная и не главная предпосылка повального постмодернизма, но одна из специфических национальных предпосылок, готовность, что ли, предрасположенность.
И второе. XIX век был временем теоретического обоснования утопий. ХХ столетие воплощало их на практике. Кончилось это катастрофически. Большие массовые идеологии потерпели сокрушительное поражение (в глазах тех, конечно, кто способен делать из случившегося выводы). Подгонять целые цивилизации под общий знаменатель идеи не получилось. То есть получилось, но привело к невиданному доселе самоистреблению. Релятивизм всего спектра - от веротерпимости и толерантности до цинизма - стал сегодня массовым мировоззрением.
Но хорошая литература не может играться в бирюльки: жизнь не стала проще и легче, смерти никто пока не отменил. Найти опору вовне умному и добросовестному человеку трудно. Идеология себя скомпрометировала, массовые конфессии отпугивают, напоминая о соборных идеологиях. Словом, образовались большие пустоты, в которых удельный вес каждой личности чрезвычайно возрастает. Это видно и по нынешней расстановке жанровых сил. Чем приватнее жанр, тем мне он кажется насущнее. Прозе, чтобы быть хорошей, придётся накрениться в сторону эссеистики, срываться время от времени на прямое обращение к читателю, на лирические отступления - то есть перестать быть романом в традиционном смысле слова: Иванов сказал, Петров выстрелил, Татьяна задумалась. Насущное, истина по своему усмотрению выбирает себе способ земного бытования в каком-нибудь искусстве: то в музыке, то в живописи, а потом так же беспричинно теряет интерес к этому искусству на долгое время - сейчас, например, истина, на мой взгляд, равнодушна к большой прозе. Можно сравнить с прожектором, который озаряет поочерёдно в пограничной темноте: ближний куст акации, кабину для переодевания на пустом пляже, край волнореза.
Что нынешняя словестность может сказать миру?
Вообще-то говоря, сказать есть много чего: опыт просто нечеловеческий и по объёму и по-существу. Из-под каких обломков мы выбираемся, «чему, чему свидетели мы были?»
Но здесь же таится и опасность проникнуться особой важностью своего сообщения, сверхзадачей, тем же миссионерством - гордыня всегда найдёт себе лазейку: пусть мы сели в лужу, зато в самую глубокую.
Другое дело, что этот опыт, может статься, был чрезмерным. Посмотрите на бездомных, какой у них, вероятно, драматичный и авантюрный опыт; сколько знают они о человеческой природе, на каком краю быта живут, в каких крайних проявлениях встречается им зло и добро! Говорят они об этом? - Им даже подумать об этом, наверное, некогда! Их жизнь слишком тяжела и не даёт им продыха, чтобы взглянуть на неё отвлечённо. Так, возможно, и наша страна: она чуть ли не весь ХХ век под паровым катком. Такой опыт - ещё не опыт, а бредовая явь, забирающая все силы. На ситуацию, чтобы оценить её, надо посмотреть со стороны, а «стороны»-то и нет, нормы нет.
Об исключительности и важности своего слова для мира не надо заботиться, как не следует заботиться о стиле. Стиль с неизбежностью появляется у каждого талантливого писателя, если ему есть, что сказать, или он уверен, что дело обстоит именно так, и он стремиться высказаться с наибольшей точностью и без прикрас. Набоков или Саша Соколов, осмелюсь заметить, в лучших своих произведениях меньше всего озабочены стилем - идёт протокольная запись своего видения мира. Замечаем мы стиль именно тогда, когда внимание и увлечение автора, а заодно и наше, ослабевают. Разговоры о стиле немного вводят в заблуждение, внушают ошибочное представление о свободе выбора стиля - как в выборе стиля плавания. Бабель не выбирал манеру письма, он навёл на резкость собственное зрение - и стал безошибочно узнаваем. Если есть настоящая потребность говорить - тут уже не до красот, но вот тут-то настоящий стиль, даже не стиль, а плоть речи и дают о себе знать, когда льва узнают по когтям.
То же, по-моему, происходит, когда хлопочут о сохранении национального стиля. Если он так слаб, что ему грозит исчезновение - туда ему и дорога или прячьте его в резервацию. А если у какого-то народа, страны есть, что сообщить миру, действительная новость - само получится неповторимо.
Завершаются два века русской литературы, в которые уложилась история новой русской литературы. Сравните достижения и провалы литературы XIX и ХХ веков.
Мне кажется, вопрос слишком неисторично сформулирован. Если бы речь шла об одной и той же ситуации, но описанной разными методами, можно было бы говорить о достижениях и провалах, о чьей-то правоте и о чьих-то заблуждениях. Но здесь совсем другое - разные эпохи и описывались в разных манерах, эксперимент нечистый. Как я из третьей эпохи могу судить обстоятельства, в которых мне не дано было побывать?
Первое и пока единственное, что приходит в голову - упразднение народопоклонства, изживание этой проблематики. После целой эпохи завистливых и восторженных взглядов на народ снизу вверх, робкого приближения к нему, ходьбы в него, народ взял и сам открыл ногой дверь в кабинет писателя. Гора пришла к Магомету. Знакомство состоялось, даже слишком близкое - коммунальное. Внимательное рассмотрение показало, что народа, скорее всего, нет. А вот люди есть. И различий у них больше, чем общих черт. Долг исчез. А совершать по отношению к людям добрые поступки - дело доброй воли каждого, в том числе и писателя.
Что - самое важное - привнесла словесность нашего столетия в русскую литературу? Назовите имена главных для вас авторов в русской литературе ХХ века.
Я назову имена, этим и ограничусь. Пастернак, хотя он далеко не самый любимый мною поэт. Но он открыл такой темп, так смял синтаксис, приблизив письменную речь к разговорной, что не учитывать этого, когда занимаешься поэзией, просто нельзя. Мандельштам обнаружил не замеченные до него ассоциативные ресурсы языка. И Набоков, на собственном примере доказавший, что интеллектуальная, а главное, эстетическая искушённость, обострённое литературоведческое чутьё - вовсе не препятствуют непосредственному личностному высказыванию; всё упирается в личность говорящего. Бродский: возвращением статусу поэта независимости, которым пожертвовала русская поэзия во имя великих гуманистических целей.
«Усталый голос поэта». Ваше место в поэтической традиции?
Я говорю, как мне свойственно, впечатление усталости, может быть, создаётся от моего способа сочинительства. Сочинять можно умом, можно чувствами, можно опытом. На деле, конечно, и тем и другим, и третьим, но чем-то - в первую очередь. Так вот, я сочиняю по преимуществу опытом. Этим, кстати, объясняется и то, что я нечасто пишу, ведь опыт исподволь прибывает. А само понятие «опыт» предполагает некоторую усталость, с лёгкостью опыт плохо ладит.
О месте в поэтической традиции не мне судить, а литературные привязанности мало что объясняют. Мандельштам, например, любил Зощенко, а Зощенко - Блока. Что в них, в троих общего? Конечно, плох тот солдат, который не хочет стать маршалом, но от мечтаний - маршалами не становятся. Вот и я стараюсь поменьше думать на эту тему.
Проза и стихи - в чём для вас разница?
Искусства в теории на роды и виды подразделяются по своему материалу, поэтому и проза с поэзией соседствуют: и там и там - слова. Но если бы искусства классифицировали по изначальному творческому импульсу, поэзия попала бы в один разряд с живописью, помните Заболоцкого «Любите живопись, поэты!»? Чуть ли не каждому поэту можно найти близнеца в живописи - и наоборот. А проза - настоящая, а не поэтическая - соседствовала бы с архитектурой, может быть. Проза, мне кажется, требует осознанного мировоззрения, а поэзия может просуществовать на интуиции, на догадках.
Что вас соблазняет в чужом тексте сегодня?
Прежде всего, уважительность, соблюдение, если хотите, прав человека. Не крести меня в свою веру, не бери на милицейский залом - спокойный тон, за это, кстати, я Чехова люблю. Затем, правильный точный язык, как у М. Л. Гаспарова, например. Потом, собственные убеждения, а не групповые взгляды. Вообще личностное начало. Самостоятельность, короче говоря.
|