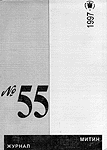
- Митин журнал.
- Вып. 53 (1996 г.).
Редактор Дмитрий Волчек, секретарь Ольга Абрамович.
С.129-137.
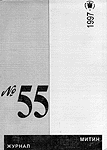
|
Редактор Дмитрий Волчек, секретарь Ольга Абрамович. С.129-137. |
|
Сейчас я произнесу его имя вслух. Оно звучит как бы в память изобретения русской буквы, переведенной с греческого напару, и в то же время не дает забыть анаграммированный в нем убийственный англицизм. Приходит Петр Степанович и между прочим заявляет, что Кириллов должен тайному обществу сто двадцать талеров. "Логический самоубийца" краснеет, он утверждает, что вернул эту сумму через него же, Петра Степановича, еще в Петербурге. Однако краска подписывается за него даже прежде подписи под продиктованным Верховенским вердиктом, он признает, что он должник другого, других. Идея убить в себе боль страха смерти, то есть Бога - а ведь Бог это еще и всегда уже сублимированная и упраздненная смерть, смерть как переход в мир иной, - и занять его место, его собственная, она действительно принадлежит ему. (То, что она инспирирована Ставрогиным, в данном случае не столь важно; мы просто будем помнить о двойнике, в тени которого плетется танатологическая паутина интриги.) Но, в отличие от идеи, действительность смерти, ее настощее, ему не принадлежит, как не принадлежит она никому из нас. Вначале было слово, данное тайному обществу, с которым он себя идентифицировал, и теперь он пойманный на слове должник. Вместе со словом он задолжал свою смерть. Как бы ни стремился Достоевский компрометировать Кириллова, он описывает универсальный символический пакт. Провал проекта присвоить себе абсолютную привилегию господина приходит не "извне", он обеспечен уже тогда, когда Кириллов адресует свою смерть человечеству, мысленно преподносит ему урок свободы, проецируя себя в библейский канон. Это педагогическое самоубийство, совершенно справделиво замечает Камю, оно несет в себе message, благовествование о свободе. То, что мы ищем в самоубийстве, это на самом деле самоудостоверение. Коммуникации до и прежде всякой коммуникации; так ребенок, не понимая разговора взрослых, вмешивается в него только затем, чтобы получить подтверждение своего присутствия. Подтверждение приносит другой. Моего "я" нет ни до, ни после, нет как нет - кроме как, может быть, в языке. Где же мы себя потеряли? Там же. Местом сборки субъекта является акт коммуникации; интерсубъективная соотнесенность с "они" выкраивает "я" из анонимности существования и очерчивает его границы, тогда как следующим шагом оказывается утрата, которую он обречен непрестанно воспроизводить, существуя лишь в собственном исчезновении. Соотнося себя с абстракцией "человечество", действуя в интересах Истории, Кириллов превращается в иное этой абстракции, в ничто, подменив принцип суверенности принципом эгалитарным, а по существу христианским. Имя Бога, таким образом, является именем нашего отсутствия, небытия, и в то же время - псевдонимом Истории. Убивая Бога, Кириллов тем не менее оставляет в живых его эманацию, дух, каковой и есть История с большой буквы. Обратная связь, предусмотренная завещанием, обессмысливает различие между внешним, внеположным, и внутренним, имманентным. "Извне" одновременно - его глубинная сущность. И когда между стеной и шкафом, все подписавший, с пистолетом в руке, оцепеневший и бесконечно мертвый, мертвый задолго до того, как умрет, он в ужасе кричит в пустоту "Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас...", - то призывает он невозможное, зовет изначально утраченную смерть, всегда уже отсутствующую и немую, всегда еще не мою. Призывает в тщетной надежде воссвоить, экспроприировать подлинное мгновенье, которое принадлежало бы лишь ему одному. Без этого мгновения его нет. Это не парадокс; акт самоубийства в действительности тщится вернуть субъекту то, что изначально им было утрачено, передоверено символическому порядку: смерть как возможность. Тут-то и подготавливается полный поворот кругом, о котором пишет Морис Бланшо: "...скачком является сам поступок смерти, чья глубина пуста и не содержит ничего потустороннего; в самом факте умирания заключен коренной переворот, в результате которого смерть, дотоле бывшая предельной формой моей власти, становится не просто чем-то отчуждающим, исторгащим меня из моей власти положить начало и даже конец, но становится чем-то безотносительным ко мне, невластным надо мною, лишенным всякой возможности, ирреально-неопределенным. Такой переворот я не могу себе представить, не могу даже помыслить себе как окончательный; он не есть необратимый уход туда, откуда нет возврата, ибо он есть нечто несовершающееся, бесконечно-непрестанное". Он поставил подпись "русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизованного мира", он признал свою принадлежность миру. Смерть его переходит на службу мира, она продолжает проживать его жизнь и трудиться, совершать работу, производить знание. Все в Истории достается на долю имени, и ничего - существующему под этим именем (как под Богом). Можно подумать, что таким образом Достоевский извне дискредитирует суверенную логику, логику, вырывающую смерть из рук Божьих, отказывает в кредите тому, кто сам отказывает в кредите Богу. Подпись принадлежит символическому обмену, структуре мортификации. Бог с ним, с тайным обществом, в любой момент оно может стать явным и легитимным. Семья, род, нация, университет (список можно продолжить) функционируют как институты круговой поруки, в которой циркулирует принявший обращенные формы долг. Не все ли равно кому (или чему) мы должны свою смерть, она в том контракте, где каждый из нас отписывает ее на имя отца. Имя этого имени - Бог, Дух (История) и ее Сын. С ужасом деприватизации самого интимного что у нас есть (то есть как раз таки нет), с этой нашей вписанностью в бюджет расходно-приходской "библии, как ее симулируют всюду народы", не справляется никакой акт-существования. Он стушевывается, прячется, обращается в бегство. В том числе и в акт самоубийства. Воля к власти является суверенной разновидностью бегства. Придет Петр Степанович, съест наш ужин и даже не даст подписаться рожей с высунутым языком. Прерву себя. Известно, что первые образчики протообэриутских текстов были обнаружены в "Бесах" Достоевского. Я имею в виду поэзию капитана Лебядкина. Стоило бы обратить внимание и на шкаф, эту инсталляцию скорби, крипту, своего рода многоуважаемый потомственный склеп, сыгравший первостепенную роль как в легенде, так и в поэтике обэриутов. И тут за кончик буквы взяв, я поднимаю слово шкаф, теперь я ставлю шкаф на место, он вещества крутое тесто. Кириллов выбирает для своей кончины нишу между стеной и шкафом, где и будет стоять подобно мумии. Более того, в эллиптических построениях его фраз можно обнаружить зачатки синтаксических моделей "бессмыслицы". Воробей летит из револьвера и держит в клюве кончики идей. Это так, к слову. Цитата. Холостой выстрел. Человек кончающий - тоже. Дело в том, что, начни я с некоего утверждения относительно формулы "человек кончающий", например, дескать я "подбираю" ее в корпусе произведений Александра Введенского и заключаю с ней брачный контракт, тем самым я совершил бы подмену и погрешил против правды. Этому предшествовал звонок Андрея Демичева, поставишего меня перед фактом танатологического съезда и попросившего сформулировать тему доклада. Я сказал, что мне потребуется для этого некоторое время. Андрей пообещал перезвонить; он выполнил свою угрозу, а я свое обещание - лишь отчасти. Что-то помешало собраться с мыслями, а я уже чувствовал себя обязанным, пришлось отвечать почти наобум, импровизировать, изобретая титульный лист существующего лишь в проекте доклада. Ранее, в "Эфирной маске", я уже делал попытку приблиться к двусмысленным отношениям Введенского с категорией смерти, но там фигурировала в основном "Серая тетрадь", проблема сна и эфирных масел, а также тема двойничества. Ибо существовал философ-кантианец Александр Иванович Введенский, чьи лекции по гносеологическим проблемам в Петербургском университете посещали Липавский и Друскин, и в комментариях к статье котрого я обнаружил историю, рассказанную другим философом, Уильямом Джеймсом, об "откровении", записанном им под диктовку "божественного голоса" после вдыхания эфирных паров и оказавшемся по пробуждении бессмысленным набором слов, абракадаброй. Так или иначе, по ошибке верстальщика "Эфирная маска" оказалась помечена совершенно фантастической датой - декабрем 1995 г.. То есть, я хочу сказать, что по вине опечатки я все еще не закончил этой статьи, что продолжаю ее писать. Когда зазвонил телефон, я как раз пролистывал (но именно пролистывал) первый том собрания сочинений Введенского, взгляд блуждал по страницам и строчкам, а рука уже держала трубку и голос автоматически отвечал: да, Андрей, хорошо Андрей, так. Как так? В этой заминке, в паузе между "как" и "так" нашего с Демичевым разговора меня и нашла формула "человек кончающий", она извлекла меня из некой словесной толщи, можно сказать, из небытия. А не наоборот. Или, если угодно, псевдо-формула, контр-формула, по контрасту с "человеком разумным". "Некоторое количества разговоров" Александра Введенского. Некто "Третий" в шестом по счету "Разговоре о непосредственном продолжении" (имеется, стало быть, также и нечто предшествующее этому продолжению, нечто, к чему нам с необходимостью придется возвращаться позднее) дает себе такое вот определение: "Я человек кончающий", - говорит он. Он, похоже на то, с собой кончает, что-то в этом роде, не будем торопить событие. Прежде всего я хотел бы заметить, что пока не знаю, к какой части речи следует отнести в этом примере на определение слово "кончающий"; какой статус ему придать. Кончающий кого (что), или кончающий с кем (чем)? Прилагательное ли оно к существительному "человек" - по аналогии с "человеком разумным", прибегающим к рационализации, к методу, к архиву трансцендентальных идей и в конечном счете к покойной самотождественности? Или, может быть, это причастие, действительное причастие настоящего времени несовершенного вида, и тогда мы причащаемся его тайны, тайны этого "я" и этого "человека"; тем более, что как раз таки в предыдущем, пятом "разговоре", он сообщает ничтоже сумняшеся: "Я убегаю к Богу - я беженец". Здесь нет противоречия, стоит только пробежаться по тексту.
ПЕРВЫЙ. Вот видишь ли ты, я беру веревку. Она крепка. Она уже намылена. ВТОРОЙ. Что тут говорить. Я вынимаю пистолет. Он уже намылен. ТРЕТИЙ. А вот и река. Вот прорубь. Она уже намылена. ПЕРВЫЙ. Все видят, я готовлюсь сделать то, что я уже задумал. ВТОРОЙ. Прощайте мои дети, мои жены, мои матери, мои отцы, мои моря, мой воздух. ТРЕТИЙ. Жестокая вода, что же шепнуть мне тебе на ухо. Думаю - только одно: мы с тобой скоро встретимся.
ВТОРОЙ. Лишь дуло на меня взглянуло, ТРЕТИЙ. Ты меня заждалась, замороженная река. Еще немного, и я приближусь. (...) Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи. ПЕРВЫЙ. Я стою на табурете одиноко, как свечка. ВТОРОЙ. Я сижу на стуле. Пистолет в сумасшедшей руке. ТРЕТИЙ. Деревья, те что в снегу и деревья, те что стоят окрыленные листьями, стоят в отдалении от этой синей проруби, я стою в шубе и в шапке, как стоял Пушкин, и я стоящий перед этой прорубью, перед этой водой, - я человек кончающий. Итак, прорубь. Она уже намылена. Он отступает на несколько шагов. Он разбегается, чтобы с разбега, как говорится, прыгнуть и утонуть. Утопиться. Ведомый инстинктом смерти, не правда ли, он готовится сейчас сделать то, на что решился. Но что это? Он никуда не уходил, не разбегался, он сидел на крыше в полном покое. "Есть, собственно, бытие", а небытие ускользает, оно не собственное: не есть, не имеет места. Философия только и делала, что мыслила бытие, но как помыслить его изнанку; или это какое-то наваждение, игра слов: произнося слово "небытие", я вызываю к жизни то, чего нет, одновременно утверждаю и отрицаю его реальность. Намыливаю отрицание. Какой-то замкнутый круг, он необходим, чтобы удерживать равновесие, чтобы удерживать себя, под стать гегелевскому духу, в смерти. Как толика безумия необходима нам, чтобы не сойти с ума. Но может быть он просто-напросто прибегает к эвфемизму, к фигуре женского, возможно даже материнского, тела, к его части, замещающей отсутствующее целое; что-то такое он собирается предпринять в его присутствии, не известно, входило ли это в его расчеты. Возможно, никакого объекта, ни тела, ни женского, ни введенского, ни мужского. Ничего подобного поблизости, на нашем горизонте одна лишь прорубь да он, тот, кто, как в воду опущенный, сидит, сложа руки, в полном покое. Или же он входит в нее, имеется в виду в прорубь воображаемого, а потом выходит и входит снова, просто потому, что ему так нравится, входить и выходить обратно, опустошая сознание этой своего рода мантрой. Но он же говорит, что он умер. Умер? Причем, как недвусмысленно заявляет об этом сам, в свой черед, дважды; он мертв дважды, этот дважды мертвец, следуя зеркальной и оборотнической логике разговора, ведущегося где-то слишком уж высоко, в каких-то словно бы эмпиреях. ПЕРВЫЙ. Умер. ВТОРОЙ. Умер. ТРЕТИЙ. Умер. ПЕРВЫЙ. Умер. ВТОРОЙ. Умер. ТРЕТИЙ. Умер. Если не ошибаюсь, эти трое говорят в унисон. Как на клиросе, если я не путаю его с контрофорсами. Поясняющая мысль. Казалось бы, что тут продолжать, когда все умерли, что тут. Это каждому ясно. Но не забудь, тут не три человека действуют. Не они едут в карете, не они спорят, не они сидят на крыше. Быть может три льва, три тапира, три аиста, три буквы, три числа. Что нам их смерть, для чего им их смерть. Вкупе с догматом о Троице, тем, что прочитывается между строк этой смеси из полишинельства и полилога. Она чревовещает. Раз, два, три. А где же четвертвый, любезный Тимей? Где же четвертый тапир, аист, лев и так далее? Он отсылает нас на три буквы. Так вот оно что, в самом деле, с этого следовало бы начать: что нам их смерть и для чего им их (то есть, собственная, принадлежащая им, казалось бы) смерть, - вопрос, способный лишить нас дара речи. Ибо мы, насколько я понимаю, собрались здесь для того, чтобы разделить этот дар, разделить между собой речь истинную и речь пустую. На, поди их возьми. Но что если дар Введенского таков, что отбрасывает нас туда, где разделение невозможно, где прорваны сети бессознательной аксиоматики, задающей меру сущему уловленными таким образом нами; где лингвистические модели, формирующие иерархию смысла, подвергаются радикальному разрушению, и обмен, приносящий интеллектуальный престиж, признание сообществом себе подобных, становится предприятием заведомо смехотворным. Ему удалось почти невозможное, он выкроил себя из обязывающей соотнесенности с языком власти, метаязыком, он не стал отвечать на его зов и не попался в комфортабельную ловушку, когда, чтобы быть признанным другими, нам приходится говорить на их языке, извлекая при этом публичную прибавочную стоимость из своего имени, то есть из могильной плиты. Персонажи Введенского существуют в парадоксальной несвершаемости, абсолютной невозможности смерти. Собственно, эта невозможность и есть "смерть". Смерть это смерти еж. Другими словами, имя во всей своей целостности присваивается лишь посмертно. В самом начале я помянул "мир иной". Эта хорошо известная идиома, многое потеряв в плане содержания, некогда совершенно определенном (для архаического сознания "страна мертвых" не метафора, а реальность), жива тем не менее в плане выражения. Такова историческая судьба образов, имен, метафор и так далее; искусство, мы слышали, возвращает им стершийся от употребления изначальный смысл. К какой реальности и к какому началу возвращает "реальное искусство" и возвращает ли вообще; не говорит ли оно скорее прощай сквозь зубы столь удобно возвышенному, то есть подвешенному, взгляду на вещи? на гуслях смерть играет в рясе Что тут скажешь, что тут можно сказать, кроме того, что Рысь, это, может быть, некая квазиРусь, некое квазитело женского рода, которое женится, а не выходит замуж. Женится и идет войной. И играет на гуслях. Этакая фаллическая твоя мать. Я не по... я не понимаю, однако, каким должен быть ответный жест, отдаривающий Введенскому его дар, учитывая, что поэтическая "критика разума", проведенная им в языке, вводит в искус радикальным опытом сомнения в возможности существования какого бы то ни было искусства, будь то "чистое искусство" толкования или столь же чистое отвлеченное познание. На каком языке говорить о том, что не отвердевает в язык, не становится культурным фетишем, но обо что разбиваются фетишизированные языки; "звезда бессмыслицы" сопротивляется привнесению в нее смысла, будучи бездной без дна, она принципиально не поддается объяснению. Уже само упоминание категории "объяснение" в тексте влечет за собой распад коммуникации. Кому повем? Работа смерти - это работа по производству смысла. Достаточно вообразить, что мы обрели бессмертье, чтобы ощутить в тот же миг, как следом рушится человеческое в человеке, рушится сама инстанция смысла, вместе с которой кончается "человек". Ибо человеческим в человеке является смерть как возможность. Все человеческое, в том числе и такое предприятие как литература, основано на молчаливом признании (и в то же время отрицании) ее анонимной и по существу безраздельной власти. Безраздельной постольку, поскольку нам ее никогда не разделить. Как не разделить речь истинную и речь пустую. Горе нам, задумавшимся об истинной и пустой речи. Но потом, при разрастании этого непонимания, тебе и мне станет ясно, что нету ни горя, ни нам, ни задумавшимся, ни речи. Стратегия Введенского имеет целью приостановку, уничтожение смысла. Иными словами - приостановку и уничтожение смерти, поскольку смысл как таковой возникает лишь через посредство нашей сущностной связи с собственной конечностью и спекуляциями на ней. "Тотемистическое мировосприятие не знает "новизны" в нашем смысле; личное начало не существует; лиц нет, есть единая маска слитного целого, и потому сознание не замечает, что умирает один человек из коллектива, а побеждает совсем другой; и умирающий и живущий - единый образ, единая маска космического тотема; это он, все тот же самый, появляется в исчезновении, оживает в смерти" (О. Фрейденберг). Ведь мы это знали уже заранее: то есть в "Разговоре о бегстве в комнате", предшествующем "Разговору о непосредственном продолжении". Мы возвращаемся, возвращаемся к тому, кого так безрассудно оставили одного в трех лицах. Как если бы можно было покончить с собой и по кольцу вечного возвращения вернуться к себе. Колечко, колечко, выйди на крылечко. Fort/Da. Троица, принимающая участие в разговоре, трижды окольцована финальным рефреном, с которого, собственно, все и началось: "Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи". Ритурнель поминовения.
ТРЕТИЙ. Одни мы убегаем. Я выну сейчас оружие. Я буду над собой действовать. ПЕРВЫЙ. Куда как смешно. Стреляться или топиться или вешаться ты будешь? ВТОРОЙ. О не смейся! Я бегаю чтобы поскорей кончиться. <...> ТРЕТИЙ. Я убегаю к богу - я беженец. ВТОРОЙ. Известно мне, что я с собой покончил.
Двойное движение. Из символического револьвера вылетает слово, не воробей. И двойная смерть. Она возлюблена дважды, трижды: кажется, что с ней умрешь, что в ней есть вечная жизнь. октябрь 1995 г. "Митин журнал", вып.53: |
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Журналы, альманахи..." |
"Митин журнал", вып.53 | Александр Скидан |
| Copyright © 1998 Александр Скидан Copyright © 1998 "Митин журнал" Copyright © 1998 Союз молодых литераторов "Вавилон" E-mail: info@vavilon.ru |