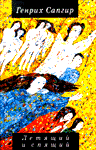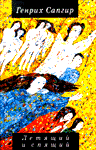БАБЬЕ ЛЕТО И НЕСКОЛЬКО МУЖЧИН
Часть I
ОТ АВТОРА
Бабье лето засиделось у нас в гостях. Окно мое вечно распахнуто, и с рассвета ко мне заглядывают косо освещенные деревья. Но и холодком тянет тоже. Свежее синее небо обещает безоблачный день, боюсь, не сдержит своего обещания. И почему, вас спрошу, литература отвернулась от жизни и природы и занялась сама собой? А как замечательно было читателю Ивана Тургенева читать про осень, а на дворе весна, и солнце - другое солнце, и мокрядь, но другая мокрота - и кашель, и капель!.. Почему мы оставили эту привилегию описывать что-либо соцреалистам? Ведь их, скорее всего, и перечитывать не будут. Или какой-нибудь модернист возьмет и переделает все по-своему. И осень у него будет похожа на весну, весна - на осень, а герой и вовсе ни на что не похож, так, загогулина. По совести говоря, у самого руки чешутся. Нет, пока просто и честно опишу все, что стоит перед глазами: хотя, трогая струны души читателя, как писали в девятнадцатом, можно скорей оживить эти строки и приблизить их к жизни. А если не трогать эти струны?
1
В парке на березах появились, высветлились первые желтые косы. Мощно кипами с краю коричневеют клены. Эти - розовые, а вот, хоть и солнце на него не попадает, висит среди веток весь лимонный на просвет кленовый лист.
Липы желтеют не спеша, выборочно, с достоинством, благородные дворянские деревья.
Но вот полетела с высоты лиственная мелочь, какие-то эфемерные погоны, медали, смахнешь с куртки - просто сор. Постой, подыши осенью.
2
Отец, помню, рассказывал мне про войну. Въехали в немецкий городок рано утром. Туман, тишина. "Останови", - говорит шоферу. Вышел из кабины отец: мостовая наискось, тротуар и сразу - дубовая дверь в лавку. Попробовал - не заперта, видно, хозяин сбежал, боялись нас немцы. Вошел, фонариком посветил: чудеса! В ювелирную лавку попал. И все на своих местах, все цело, мерцает. Отец недаром старшиной служил, прямо с витрин горстями часы, ожерелья, все сверкающую мелочь стал сгребать в свой солдатский вещевой мешок. Медлить нельзя было. Минометный обстрел начался.
Увязал отец мешок и забросил его в кузов полуторки. "Погоди", - сказал шоферу. И отошел за угол, хоть и в тумане. Как шарахнет! Шофер убит, половины кузова как не бывало. Пропал клад. А отца спасла городская его привычка: не ссать прямо посреди улицы.
А сегодня я подумал: вдруг это чудо - все эти часы, золото и бриллианты сплавились тогда в один слиток (чего на войне не бывает!) и перенеслись силой взрыва лет на пятьдесят вперед. Выйду я сейчас в осенний парк и увижу слиток, поблескивающий на темной мокрой дорожке.
3
Гляжу на большие ржавые листы ольхи и каштана, полукругом налипли они на мокром асфальте. Это осень разложила мне веер листьев, и я доволен: сплошь благородные короли, дамы-бубны и черви. И я при своем интересе. Бубны, правда, не гремят, зато черви роют свое, роют.
Погадай мне, осень, о прошлом. Какое нагадаешь, такое и будет.
Интервью.
ГАЛЯ АККЕРМАН. Ну а дальше?..
ГЕНРИХ САПГИР. Дело в том, что очень быстро получилось так, что началась война. Я уехал в город Александров, где тогда работал отец. (Жил в Москве, а работал в Александрове.) Так что мы с матерью и хромающим отцом (в одной из своих поездок он был ранен в ногу), что называется, эвакуировались - за сто километров в тот самый день, когда немец подошел к Москве, 16 ноября. Помню, ахало, ухало, огромные алые - ночью стояли алые горизонты, там был фронт, был виден - бесконечные налеты, бомбы летали и падали всюду...
Безвластие было в Москве. Все раздавали, я прекрасно помню, как из магазина с мешками бежали взрослые, подростки оглядывались. А никто за ними не гнался.
ГАЛЯ АККЕРМАН. Как же так?
ГЕНРИХ САПГИР. Просто раздавали населению рис, муку, сахар. А войска уходили - обозы с лошадьми, пушки везли, уходили. По шоссе. Через центр.
И тут же шли в обратную сторону, но не эти люди, а совсем другие: обученные сибиряки в добротных полушубках с автоматами за спиной, с лыжами на плече. Я теперь думаю, война любит хорошую, вкусную пищу, правда, стариками и детьми тоже не брезгует...
Эти, отступающие, шли - такие потрепанные, усталые... Какого-то рыжего немца вели, может, австрийца, я не знаю, такой снежок легкий падал...
ГАЛЯ АККЕРМАН. А...
4
...А то летит зеленый листок. Еще и пожелтеть не успел, черенок уже слабо держится, не тянет соки, омертвел. Мне кажется, дереву облететь не больно. И ветки устали за лето нести груз листьев. Сбросит все - и дело с концом!
Из письма.
...стихи, без сомнения, реалистические, но уже в особом творческом аспекте с новыми, свойственными только вам гармониями. Вот тут реализм сам говорит за себя, как самое страшное, в скрытом, как бы бредовом, надреальном состоянии.
Обычно за реализм считают тот глубокий сон, когда все ясно, и понятно, и просто, и даже мило, и даже хорошо.
Но во всех и во всем еще есть некое, как ужас, пугающее, скрытое, но вдруг выявляющее свою тайную личину.
Мы подсознательно стремимся к пробуждению - нам страшно, но некое тайное нас толкает на это. Это пробуждение от сна мирной реальности к скрытой реальности мы ощущаем как неизбежное, неотвратимое.
И недаром же все мы отдаленно чувствуем: смерть - пробуждение. И болезни нас томят, и кошмары, и одурманиваем мы себя алкоголем, табаком, морфием, элениумом, кокаином, потому что та тайная реальность и кажущаяся сонной реальность нашей повседневности зовут нас к пробуждению.
Трансцендентальный реализм - это реализм нашего интеллекта, но вот реализм тайных эмоций страшен, неотвратим и неизбежен: он неизбежен!
Конец лета был зело хорош, но теперь уже все, кончено.
Осень.
Желаю успеха.
Ваш Евг. Кропивницкий
5
Он вычертил линию своей жизни еще в Харькове, как схему пистолета-пулемета, которая висела на стене его комнаты, которую он снимал в Москве, рядом с портретами Мао Цзэдуна и Че Гевары, которые были его юношескими идеалами, которые... Он прочертил эту линию так же добросовестно и ровно, как шил тогда брюки или сшивал тетрадки своих стихов.
И пролегла она, линия, длинная, как его подруга, - одни ноги: Париж где-то у колена, педикюр в Риме - вскидывая вверх, через океан, уперлась в Бродвей, стройные лядвия - икры-лодыжки-ступни.
А потом эта линия бросила его, как, впрочем, и та женщина, это была женщина-линия, и она не могла, чтобы стал ее парень просто политиком. Вытянув ногу, она подкинула его и забросила на пятый этаж в маленькую полуквартиру-полустудию на улице Мазарини, в эмигрантский быт.
А ведь он ей всегда был верен, он любил все ее изгибы, никогда не мог себе позволить: "К черту линию!" И когда в засаде там, в Сербии, он следил взглядом мягкие линии гор или когда очутился ниже ватерлинии корабля и захлебывался соленой водой, когда бил себя по пальцам линейкой, еще в детстве, чтобы научиться терпеть, он служил своей линии жизни, а она ему, можно сказать, всегда изменяла.
Иначе седеющий, коротко стриженный, в черной косоворотке - почему он не президент? Почему он только писатель? Интересно, убил ли он кого-нибудь или так и промечтал всю жизнь? Убить не запланировал, думаю, а то бы убил.
6
...на Алтае в городе Бийске, где никогда потом не был. Просто родился. Что за карты выпали отцу - страстному игроку и нэпману тогда: такой расклад или виноват усатый?
Горы вдали уже порыжели и побурели, как сейчас, не помню. Шли долгие дожди, и мне явно не хотелось появляться на свет. Но время пришло, ничего не поделаешь. По случаю моего рождения отец созвал в гости весь город: и толстого владельца завода "Ландрин", и его тощую манерную жену, и первого секретаря, и его подхалимов, и хозяина обувного магазина, с которым постоянно имел дело, всех не запомнишь. В общем, были все: такие усатые, бритые, страшные - и тыкали в меня пальцем. А я смотрел на них круглыми глазами и все не мог к ним привыкнуть, до сих пор не могу.
Мишке - среднему брату - было девять, а Игорь был постарше - десять исполнилось. Два мальчика в матросках бегали между гостями, ползали под стол, в общем, радовались по-своему. И тут Мишка, негодяй, уговорил серьезного Игоря подкрасться к маме, стать за ее стулом, притаиться. И вот наступил торжественный момент. Один из отцов города, краснолицый в кителе сибиряк, встал и произнес прочувствованную речь, посвященную моей маме - красивой женщине, надо сказать. Все поднялись чокаться и мама тоже: в одной руке хрусталь, другой прижимая запеленатого меня к груди. И тут Игорь выдернул стул из-под мамы, чтобы смешнее было. Семейное предание гласит, что выпороли обоих: Мишку и Игоря. Этого всего я не помню, но больно мне до сих пор. И когда великий киноактер произносит с экрана: "Когда моя бедная мама уронила меня с четырнадцатого этажа", я чувствую в нем нечто родственное.
"Дубовый листок оторвался от ветки родимой..."
Все шевелится вверху и внизу - и вдруг все стихает. Не так уж там вверху поредело, а столько листьев набросано, как на поле сражения. Если приглядеться к ним, сохлым и жухлым, - судороги, муки агонии, рваная плоть, все вповалку - Бородино какое-то. И туман стоит...
- Крыша поехала! Крыша поехала! - кричал кто-то так пронзительно, даже оскомина во рту.
И действительно, крыша старого здания на площади поехала, приподнялась, и все утонуло в сумасшедшей пыли и грохоте направленного внутрь взрыва. И зачем вспомнил?
"В доме Т. Оглы на ул. Ползунова, 9 главарь банды приказал хозяйке..." Дочитать не успел, сегодня особенно сильный ветер, унесло обрывок газеты. И хоть мне было любопытно, что приказал, не гнаться же по переделкинским улицам за белым клочком и не ловить же его на ветру.
Но все-таки что приказал придурок? Мне кажется почему-то, что ползать. Почему ползать? А почему на улице Ползунова? И кто такой Ползунов? И куда делась вся моя жизнь вплоть до настоящего момента? Лишь ползают вокруг истлевшие дубовые листья, подползают ко мне... Усталость подкрадывается. Боюсь, вдруг обрушится все, как это старое здание.
7
С вечера шел дождь, и не "тихой переступью", а шумел вверху по крыше ровными накатами океанских волн. Поэтому бар, где мы обычно собирались втроем, в подвале, мы так и прозвали: "Подводная лодка".
Достойные обломки шестидесятых, разбитые инфарктами, инсультами, вообще потрепанные жизнью, мы пили черное молдавское "негро пуркару". Пить мы умели и выпили за свою жизнь много.
Драматург с блеклыми запрятанными в складки кожи глазами, подсмеиваясь сам над собой, рассказывал, как еще "тогда" здесь, где мы сидим, какой-то неизвестный горский писатель, пишущий на никому не известном горском языке, горячо уговаривал его лететь в Дагестан и, разгоряченный коньяком, обещал просто царский прием. И как драматург полетел туда со своей любовью, со своей тогдашней любовью, тогдашний процветающий он. А на деле роскошный прием оказался захудалой гостиницей с тараканами, уборная на улице, и даже полотенец достать было невозможно. И ему там стало плохо, ему стало плохо, тогдашнему, процветающему. Я не спрашивал, каково было его женщине, потому что со мной была такая же история в Гаграх. Мне казалось даже, что мокрое белье, клопы и тараканы у нас были общие. А третий - скромный, "мужичком", писатель - сочувственно помалкивал. А главное, та, которая летала с ним тогда, была и сейчас рядом. За стойкой бара, сильно накрашенная и, кажется, еще привлекательная. Слышала она или не слышала? Или слушала, как шумел вверху хвойный подмосковный океан?
8
Засохший листок в сеточку, вся мертвая ткань выпылилась, а прожилки остались, держат основу.
Такое же было лицо у очень старого писателя, одессита, аристократа пера. Ну, конечно, была в нем подлость, была, но столько прошло, столько выветрилось со временем, стольких похоронил. Теперь от него веяло забытым благородством, и даже старческий запах кипариса, душистого табака, потертой шерстяной ткани - все располагало к нему. А главное - с какой брезгливостью и презрением, с какой ненавистью он смотрел через стол на своих визави - советских "письменников". Длинный стол был накрыт в саду. Стоял еще август или уже сентябрь, было сухо. Вдали виднелась дача-особняк.
А как просветлели, как дьявольски повеселели глаза, когда молодой худосочный поэт-цуцлик напился и полез цыплячьей грудью буквально на стену, на штангиста - чемпиона Союза, друга хозяина. Распаляя себя в праведном гневе, он выкрикивал нечто нечленораздельное, но очень обидное для всех присутствующих. То, что думал ты про них всегда. Чемпион так удивился, что стал успокаивать юнца. Под шумок цуцлика выкинули. "Не приглашать больше!" Как ты ему завидовал! Пойдет - и больше "не приглашают". Если бы ты был этим болваном-штангистом, ты бы всех запросто передавил.
Тополиную тлю, оказывается, и давить не надо. Поставишь большой палец, чуть касаясь, - сама под ним шелковой пылью рассыпается.
Ползет по столу поздняя божья коровка. Вдруг остановилась, замерла, лежит мелким камешком. Вот оно что. Кисть моей левой руки шевельнулась, как ожившая гора.
Боже, для каких-то существ я большая гора. А сам всего-то - хуже, чем боюсь, - опасаюсь.
9
Живет вверх от Сретенки в пыльном переулке, во дворе, с давних времен стареющий, но все еще не старый поэт. Тощий седой джинсовый парень. Иногда думает обо мне. Думаю, не может не думать, потому что дружим всю жизнь.
Как тебе я и моя осень представляются? Как мимолетные тени? Вообще одни слова или вполне реально? Вот я вышел прохладным утром из двухэтажного дома в парке. Дом как на ладони - на асфальтовой площадке - салатово-белый с ненужными колоннами, помещичий дом пятидесятых. Вот я здороваюсь с гуляющими, отдыхающими, работающими, то есть размышляющими на ходу, притворяюсь, что знаком, что помню их. А кое-кого я помню очень хорошо, и ты понимаешь, встречи с ними я стараюсь избежать.
Ты видишь меня со спины: углубляюсь в парк. Оглянулся: никого. И поскакал по дорожке козленком. Веселый, толстый, усатый, схватил в зубы обломанную ветку, встал на четвереньки и погнался за хвостом мелькнувшей в кустах собаки. За розовой сойкой лечу, мы мелькаем в чаще - два пестрых пятнышка. Упал, зарылся в сухую листву, мне нравится, как она шуршит. Подбрасываю вверх листья. Мне хорошо.
И никто не видит меня. Только старый мой друг из окна своей московской квартиры во дворе Ананьевского переулка.
В другое, гораздо более раннее, время взрослые девочки на нас, маленьких, надевали кленовые венки. Короновали. И вели на самый верх белой московской колокольни. Вереницей детишек. Мы играли - во что, не помню. Но так было надо. Карабкались. Высокие ступени, чья-то липкая ладошка в руке, синее-синее над Москвой.
10
А как видит меня теперь еврейский поэт, покойный Овсей Дриз? "Я издал полное собрание моих зубов!" - шутил он, возвращаясь от стоматолога, незадолго перед инсультом. И у него получалось: шобрание.
Полное собрание его зубов осталось в земле на Востряковском кладбище. Неправдоподобно густая шапка седых волос всегда казалась мне париком. Костюм сидел, как на вешалке. А сам-то он где?
Небось нарастил новое мясо и другие кости и бегает теперь смуглый до черноты мальчуган по серым худосочным холмам возле израильского поселения. Долго стоит и смотрит на ослепительную полоску моря вдали. Нет, не может он так расстаться со всем этим и еще одну жизнь проживет.
Или - он видит меня очами своей души. Сквозь бледные кленовые листья на просвет моя фигура. И оно, мое тело, лунно-прозрачно: сквозит прошлое, будущее и все милое нам на земле.
11
Жил-был человек. И так прожил свою жизнь, будто и не жил никогда. А может быть, жила-была пустота?
Эту сказку я каждый раз себе рассказываю перед сном. Тогда и засыпать не страшно.
Пустоты все обширнее там, среди верхушек берез, а здесь еще пируют, захлебываясь яркими красками, кусты и осинки. Во всяком случае, как налетит поверху ветер, аплодисменты слышу. Осыпаются аплодисменты.
Красный обшлаг желтого рукава заслонил на мгновение бокал. Когда отошел злодей, бокала на итальянском столике уже не было. Да он еще и фокусник!..
Моцарт был такой пухлый, бритый и наглый, будто он сам - Сальери... Он ткнул пальцем в клавиши, актер явно не умел играть, даже подобия не вышло, лучше бы не касался...
Я хотел бы, чтобы Сальери был этой грустной осенью, а Моцарт - голубым беззаботным небом...
Пусть поднимется этот красно-желтый атласный занавес и все листья улетят в небо. Как птицы...
Тогда останемся мы на земле одни - заметные мишени. Хорошо, если в сторону за березу пописать отойти успеешь.
Часть II
НЕ ОТ АВТОРА
Я не автор, даже не человек, просто я могу заглянуть в его рукопись. Какие-то наблюдения, воспоминания, причем не все его лично. Из этой мозаики он хочет склеить нечто единое, по настроению хотя бы. Не новая идея. "Бабье лето и несколько мужчин", - крупно начертил-напечатал вверху страницы. Не знаю, можно ли меня назвать мужчиной, но, несомненно, я активное создание. Так и подмывает меня вмешаться в его рассказ и сразу после его строк поместить свои. Я ведь тоже впечатлительный по-своему. Это можно будет сделать ночью, когда он спит в стороне этаким бугром одеяла, в комнате холодно. Он закутался с головой и не увидит, как на компьютере сам собой появляется текст, компьютер негромко гудит. У него он постоянно включен.
1
Странные люди, они дышат осенью, хотя известно, что временем года дышать нельзя, это достаточно отвлеченное понятие. Эти люди все путают. Скажем, поэт вплетает толстые витые женские волосы между ветвями березы. Метафора - странная идея. Чисто человеческая. Я бы осень нарисовал так:
Березы, осинки, сосны, кустарник, сторож, гуляющие, дорожки, небо, собака, автобус. Желтеют, краснеют, темнеют, зеленый, ругается, смотрят, уводят, синеет, бежит, едет. Эти и эти, там и повсюду, тот и туда, оттуда и громко, нежно и быстро, вонючий.
2
То, что автору рассказывал отец про войну, - обычный случай. На этом месте встал - убило, перешел на другое - спасен. Это просто варианты перемещений и траекторий. И стоит только подняться немного над реальностью, можно увидеть все целиком. Но человек в пути, ему некогда видеть все, как оно есть, даже взглянуть кругом не всегда себе позволяет. Он постоянно глядит в себя, а в себе он видит вселенную, и его не смущает, что таких вселенных множество. Одна вселенная спотыкается о другую, одна другую вытесняет, и приходится признать: одна уничтожает другую. И все эти вселенные - одна-единственная. В их физическом мире этого не может быть. Но у людей мистическое сознание, и они живут вовсе не в мире, а в своем сознании.
Я бы выстроил воспоминания отца так:
Я, не теперь, а тогда: война, Германия, красивые лужайки, особняки крестьян, неправдоподобно красиво, живут же люди, утренний туман, куда-то едем, похоже, город, подожди, я сейчас... Боже мой! Никогда не видел столько золота и бриллиантов! Взять, имею право, а что? победитель, ведь они у нас, я богат, надо еще дожить, доживу, бьет, сволочь, близко, не успеть, успел, все забрал, ссать хочу, подожди, надо убрать, Господи! Я богат, ну, давай писай, писька, миллионер "с головы до ног", почему Шекспир? Рядом ударило, ну, кончай свою струю, что же товарищи? Где же мешок? И машину разнесло, а могло бы меня, где это? Что ж это, ведь я же в мешок, и завязал крепко, сволочи немцы, будто приснилось, надо искать своих, проклятый туман!
3
К третьему отрывку. Здесь даже сказать нечего. Человек постоянно находится в неведении насчет своего прошлого, какое оно было. Помнит далеко не все, а как ему надо, так и складывает свое прошлое. То любит, то ненавидит, в зависимости от. Любопытные узоры получаются. А государство? Как выгодно сегодняшним чиновникам, так они и выстраивают историю. Оппозиция кричит: погодите, все было не так; все было совсем наоборот! Оба относительно правы. Потому что было все. Все, от чего бежит изворотливый ум, который постоянно нуждается в допинге, в самооправдании, тогда у него появляется цель и силы дальше жить. Если бы я был человеком, я бы сказал, что разум - это самозванец Дмитрий, который внушает всем и себе, что он царь. Притом сам чувствует свое самозванство и каждую минуту боится, что его свергнут с трона. Но будет ли идущий за ним царем, а не еще одним самозванцем? Скажете: метафора? Нет, до метафоры я не дорос, просто аллегория.
Интервью я бы изобразил так:
Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман.
Александров, Москва, Александров, Москва, Александров (в перспективе).
Утро, снежок, ахает, ухает, страшно, но здорово, мать тыркает, отец хромает, я смотрю: страшно интересно. Лошади, подводы идут через Москву, это же праздник, иллюминация, весело-весело, грабят, несут, мешки, коробки, бутылки, все такие занятые, а эти растерянные, могут убить, русские, австриец, солдаты, пленный, ребенок, я, кто я? Сам, сам, сам! Вечный, радостный! Никогда не убьют.
4
Автор смотрит на падающий зеленый листок. Здесь его посещает мысль о довременной смерти. А дерево, видимо, род человеческий. Нет, это опять он сам, несущий груз своих грустных мыслей. Грустных - груз. Грустеподъемник, грустянин, грустевик. Возникают слова, я представлю, что это такое. Грустевик - грустный человек, весь обшитый грустью, как броней. Он еще и груздь - такой большой, такой лесной и неподъемный. Грустевик прячется где-то в развалинах, подстерегает ничего не подозревающего старика или влюбленную пару, чтобы выстрелить из грустья. И сразу из прошлого выскочат фантомы - любимые женщины, близкие люди, умершие уже, и начнут отщипывать по кусочку души. Неприятное зрелище для таких, как я. А вам, людям, это даже нравится, вся эта грустятина. Вы живете в том, чего нет да и не было никогда, в том, что вы сами придумали на досуге. А вы говорите, метафора.
Конечно, некоторые из вас чувствуют иное, скрытое от них. И, поскольку это совершенно непохоже на весь их придуманный мир, пугаются до ужаса, до онеменения, до судорог души. Я бы так переписал письмо одного из таких, мудрого старого художника и поэта:
Некое, скрытое, страшное, тайное, чуждое, неизбежное, неотвратимое, невыразимое.
Сон, бред, бредовое, меня уничтожающее, боюсь, боюсь, себя боюсь, соседей боюсь, мать еще жива, матери боюсь, боюсь ту, кого люблю, боюсь ту, которую разлюбил, боюсь всех, кого не люблю, боюсь идти за картошкой, боюсь ехать в город, боюсь электрички - и не стыжусь этого, жизни боюсь, а не смерти, вот моя тайна и скрытое, тайное, чуждо-враждебное, страшное, неотвратимое, неизбежное, невыразимое, ночью сердце, слышу, стучит.
5
А этот, про кого ревниво и коротко упоминает автор, - любопытный экземпляр человеческий, прирожденный лидер, но беда-писатель. Как лидер, он любит купаться в людях, возвышаться над ними, учить сам не знает чему, главное - поза и уверенность в том, что это - реальность, а не приснилось тебе в одночасье. И когда эти куклы падают или их сшибает, как кегли, время, они снова становятся обыкновенными людьми и сами недоумевают, что такое происходило с ними. Но, я вижу, слишком много терлись они среди человеческого такого разного, такого дерьма, их начинили всем этим - пряной начинкой. И главное - от них разит, а они радуются, будто это "Кристиан Диор". Они печатают шаги по-командирски, они произносят речи, лишь бы слушали, слишком часто им кажется, что на них взирают с восторгом. Остается их только пожалеть, сами-то они никого жалеть не умеют. А этот парижанин из Харькова вообще идеолог войны как здоровой мужской прогулки, где мужчины, шутя, борются на лужайке, походя любят подруг и радуются атмосфере, когда стреляют. Слишком много потного тела для меня.
Убить, убить, убить, убить, убить, что это? Разве это я? Кто это? Меня нет, нет убитых, нет страдающих, Бога нет, никого нет, кто меня подменил мною же? Кто?
6
Автор описывает случай среди алтайских предгорий на празднике в честь его рождения, который происходил, как я понимаю, в зале бывшего Дворянского собрания или в реквизированном купеческом особняке. По стилю я вижу: автор крепко надеется на это. Если мама держала его, автора, на руках, то он мог видеть своими бессмысленными глазками лепных ангелочков на потолке и хмельные головы окружающих. Автор сетует, что его уронили, но это по рассказу очевидцев, было ли это? Может быть, старшие братья только хотели уронить, а выпороли их за другое. Почему автор не вспоминает широкий офицерский ремень отца? Что, его не били никогда? Даже мать стегала его ремнем. Отсюда страх.
А пиршественный стол. Я представляю все это так: усы, усы, борода, глаза, стеклянные, страшные за стеклом глаза, синие щеки, ус приближается, приближается, мне страшно, хочет уколоть, он колет меня, я кричу изо всех сил, меня трясут, я кричу, меня трясут сильнее, мне страшно, я кричу, закатываюсь в неслышном плаче, мне протягивают большое, теплое, родное, вкусное - сисю, еще всхлипывая, чмокаю - теплое, сладкое течет в меня, успокаивает, но я не забыл, нет, я не забыл эту щетку, колющую нежную кожу, эти ножи, этот стеклянный навыкате глаз.
И теперь, глядя на опавшие листья, я вижу: голые женские бедра, сморщенную старушечью грудь, коробящиеся на огне "испанские башмаки", порванные кривящиеся рты, вывернутые розовые влагалища, и влага - стеклянный навыкате глаз, на котором уселась улитка.
Вот что бы я написал на экране компьютера, будучи автором. А потом бы все это стер: вон из подсознания!
7
Об усталости говорит автор. Листья вокруг него, видите ли, ползают. Листок газеты унесло. И автор тут же вообразил себя каким-то сумасшедшим, трясущимся, несущимся, простирающим руки к бумажным обрывкам, к летящим листьям по пустынной дачной улице. Такой силуэт из себя вырезал. Даже в печали люди любуются собой.
А печаль по поводу наступающей старости. Хоть и нечем мне сочувствовать, а жалко его, автора. Ведь я тоже отчасти почувствовал себя человеком, читая его обрывочную историю. Хорошо, что не мемуары, а то бы я совсем скис.
Воспоминания приятеля его - драматурга - я бы изобразил более реально. Не что говорили, а что думали.
ДРАМАТУРГ. Сидит рядом за стойкой - и бровью не ведет. Ничего еще, как ноги раздвигала тогда, как бурно полоскала ими в воздухе. Что-то, кажется, чувствую. Богиня была - белая и большая, когда в кровати.
БОГИНЯ (за стойкой бара). Чего он там врет? Ну, летала с ним в Дагестан, он ведь не знает, что и с его другом тоже и туда же! И еще - было, есть что вспомнить, теперь уж не то. Жалко, конечно, его, еле ходит. С палочкой. Палка у него стояла толстая. Господи, прости.
ДРАМАТУРГ. Слышит, как про нее рассказываю. Мог бы и рассказать про все наши выдумки: и как подушку под спину ей подкладывал, и как валетом, и как сосать заставлял, и приятеля однажды привел. И ничего, как с гуся вода с нее все сошло. А ведь сколько лет... Охота снова на нее залезть, сердце не позволяет.
БОГИНЯ. Хорошо, что я мини-юбку сегодня надела и прозрачную кофточку, пусть смотрит. Наверно, больше ни на что не способен. Муж обещал зайти.
ДРАМАТУРГ. Какая волнующая задница, как она поводит из стороны в сторону ею, знает, чувствует. А ведь там сзади закуток, комнатка сзади есть, если дальше пройти. Повалить бы ее там на пол! (Громко.) Налей нам еще по двести вина.
БОГИНЯ (еще громче). А тебе не хватит?
ДРАМАТУРГ (вздыхает). А куда деваться? Сверху дождь, океан шумит. Только и сидеть здесь, в "Подводной лодке". Вечер просидим, приму лекарства и на боковую. Придешь в номер? (Про себя.) Ведь не придет, пообещает и не придет. Значит, все.
АВТОР (некстати). А мне кажется, что тогда, в те времена, не говоря о девушках и гостиницах, и мокрое белье, и тараканы, и клопы у нас были общие. Выпьем?
8
Тоже сценка, не очень понятная мне. Ну, я понял, действие происходит в вонючие советские годы, сидят в саду за длинным столом в основном старые, обласканные властями, прославленные газетами писатели. И все они, честно ненавидя друг друга, общаются постоянно. Ведь живут в одном поселке, отмечают юбилеи друг друга, заглядывают за заборы и в сберкнижки соседей, доносы пишут регулярно, как и романы. Старые лакеи в засаленных фраках, собравшись, воображают себя господами. Но в любой момент может появиться настоящий хозяин и крикнуть: "Цыц!" В лучшем случае прогнать. Отсюда - постоянный страх. Вообще я заметил: чем выше, тем страха больше, тем он гуще.
Одно непонятно: почему такое почтение у автора к этому ветхому одесситу, потрепанному анекдоту, можно сказать? Всю жизнь прожил среди своих и еще смотрит на них свысока, как-то особенно всех ненавидит. Я просчитал, что здесь изображен ваш Валентин Катаев на юбилее вашего же Льва Кассиля, хотя все они для меня на одно лицо. Но ведь пришел Валентин ко Льву, не отказался. Сидит, пьет, ест и ненавидит. Извращение какое-то.
Я бы со своей нечеловеческой точки зрения расставил бы их всех по порядку, как сидели:
Валентин Катаев, зяблик мельком (пролетел), Степан Щипачев, лесной клоп на скатерти, Юрий Власов, бутылка водки и бутылка воды, безымянная старушка приживалка, еще бутылка водки (почему-то вся закуска ближе к юбиляру), помидоры, буйствующий цуцлик, божья коровка у него на шее, соленые огурцы в тарелке, еще один Степан Щипачев, поросенок с хреном пошел, дальше бывшая шлюха Валентина Сергеевна, два пионера, Назым Хикмет, кагэбэшник с плоским затылком, а там уж осетрина, севрюга горячего копчения, балык, икра и сам юбиляр, худой, как палка балыка, в очках, несколько недоуменно посматривающий на присутствующих: а зачем вы все сюда собрались? По поводу метафоры: от него пахнет какой-то интеллектуальной копченостью для меня.
Над белым столом яблони склоняют свои отягченные румяными плодами ветви. Встанешь - бум! - тяжелое яблоко ударит тебя по затылку. Кто-то раздавил лесного клопа, и водка пахнет клопами. Всех можно только пожалеть.
9
Если бы все это не было воображением, я бы решил, что люди приобрели новое качество, нужное им сегодня, которое может изменить все их последующее существование. Старый друг, который живет в Москве, видит из своего окна парк за оградой, там два здания - старое 50-х и новое 80-х - и гуляющих по аллеям писателей - старых 50-х и новых 80-х. Причем 50-е думают, что они ничего, а 80-е - что они лучше.
Из своего окна, из которого ничего невозможно увидеть, кроме зачуханного двора, друг видит автора почему-то со спины, будто он смотрит из окна комнаты, где автор теперь живет. Сам себе телевизор, чудеса! Попахивает фантастикой, но в принципе возможно. Вообще я заметил, что люди за всю историю ничего не придумали, что бы потом не осуществилось. Примеров тому масса. И если люди придумали Мессию, то Он явится, будьте спокойны. И Страшный Суд достаточно реален. Бесконечно малое оборачивается бесконечно большим и замыкается тем самым на конечность. Мой компьютер доказал Его существование.
Я изобразил то, что мог бы увидеть друг автора, если бы посмотрел внимательней:
1. Автор стал собакой.
0. Собака не сделалась автором.
1. Автор залаял.
0. Собака не заговорила.
1. Автор радуется осеннему утру.
0. Собаке не смешно.
1. Автор хватает зубами палку, выражая щенячий восторг.
0. Собака смотрит на него с недоверием, можно сказать, с презрением.
1. Автор - интеллигент.
0. Собака местная, убегает.
1. Автор превращается в сойку.
0. Сойка хочет улететь от непонятной птицы - автора.
1. Автор мелькает в кустах, очень похоже. Хрипло кричит.
0. Сойка в панике.
1. Автор падает в траву и листья, раскинув крылья.
0. Сойка в ужасе улетает, так ничего и не поняв.
Вывод: поэзия страшно далека от природы.
10
Опять воображение. Умерший друг видит автора на просвет. Как видит и чем видит покойный, люди не знают. Сказал: "Очами души", - и как будто все всем понятно. Очень многое люди обходят стороной, легкомысленные существа.
Но логика тоже не дает полной картины. Я могу подсчитать, сколько черепов, зубов, костей и тряпья люди сложили в землю за время всего своего существования, получится, что вся Земля - сплошное кладбище. Но все это куда-то делось. И почему по всему городу и лесу не валяются птичьи трупики? Ведь птиц неисчислимое множество. Поэт скажет: когда умирает птица, она тает в воздухе, не успев упасть на землю. И будет прав. Воображение дополнит натуру для полной картины.
Нет ни полной картины, к сожалению, ни частей, потому что они взаимозаменяемы. Все так разнообразно, что от перемены мест слагаемых ничто не может пострадать. И какая бы картина ни была бы представлена, она достаточно законна и естественна. Потому что: "Что такое неестественность"? И то, что я пришел от отрицания метафоры к торжеству ее, - естественный ход вещей. Ибо все превращается во все. И ничего, таким образом, нет.
Поскольку все, что в мире существует,
Уйдет, исчезнет, а куда - Бог весть,
Все сущее, считай, не существует,
А все несуществующее - есть.
Любимый поэт компьютерных существ - незабвенный Омар Хайям.
11
Пустоту не комментирую. Пустота так наполненна, что сама комментарий к себе.
Но в конце повествования автор показал спектакль - сцены из "Моцарта и Сальери" в осеннем свете.
Я со своей стороны вижу эти сцены конструктивно.
Сцена 1. Моцарт и Сальери. Моцарт играет плохо. Сальери и не пробует играть на фортепьяно.
Сцена 2. Сальери - осенний парк, Моцарт - голубое небо. Играют оба скверно, Сальери весь осыпался. Моцарт затянут облаками, Моцарт дождит.
Сцена 3. Поднимаются Моцарт и Сальери, рассеиваются и обнажаются конструкции, которые не имеют к спектаклю никакого отношения.
Сцена 4. Автор и еще какое-то количество людей, как я разумею, его сверстников, остаются на голой земле заметными мишенями. Автор надеется, что успеет спрятаться, что в него не попадет, что минует. Но вся эта игра до поры до времени. Человеческое во мне надеется, что автор и его друзья останутся мужчинами до конца. А Бог, который выскочит из моей машины, представит все как 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 и т.д.
Я и сам не уверен, существую ли вне транзистора или я вирус, некая мнимая величина, стоит только потрясти текст, чтобы все стало на место, и я исчезну. Но тогда не станет и автора, скорее всего.
Прежде чем мы оба испаримся, я изображу на светящемся желтом небе компьютера вознесенный черными стволами и сучьями ворох синей, фиолетовой и лиловой с подтеками кленовой листвы.
Послесловие