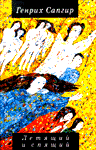
- Летящий и спящий:
Рассказы в прозе и стихах
М.: Новое литературное обозрение, 1997. / Послесловие Ю.Орлицкого.
Редактор серии - Т.Михайловская
Художник - Е.Поликашин.
ISBN 5-86793-029-7
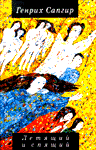 |
Рассказы в прозе и стихах М.: Новое литературное обозрение, 1997. / Послесловие Ю.Орлицкого. Редактор серии - Т.Михайловская Художник - Е.Поликашин. ISBN 5-86793-029-7 |
|
ПАРИЖ, КОТОРЫЙ Я ВЫДУМАЛ ...а нужен другой, настоящий, Париж, Был Париж Александра Дюма-отца. И силуэт его сохранило время. Был Париж Оноре де Бальзака. И сейчас можно узнать особняки и мансарды. И Париж Мопассана, кое-что осталось, например, места, где на Сене купались и катались на лодках летом. Остался Париж Хемингуэя, и ресторан "Купол" стоит на прежнем месте. Можно еще увидеть Париж Жоржа Сименона и Раймона Кено. Даже лица сквозят. Подруга Пантагрюэля - Смотри, какая большая женщина. - Могучая и кучерявая, как негр. - Как она жадно глядит на всю эту мишуру! - Из Италии прикатила наверно. - Скорее из России, из Одессы откуда-нибудь! - Продавцы только что не хватают ее за руки. - Да она со всем своим удовольствием. - Есть, нырнула в пещерку. Посмотрим... - Выходит. - Молодец, из ушей торчит по медной Эйфелевой башне. - А в руке сумка: вышит музей Помпиду. - Этот китаец просто тащит ее в свой магазинчик. - Это вьетнамец. - Смотри, она не смущается. Она натянула на себя широкую разрисованную майку: Елисейские поля. Прямо поверх свитера. - Хорошая подставка для Елисейских полей. Просто все кипит и дышит. - Ей жарко. Обмахивается Триумфальной аркой - репродукцией. - Смотри, она покупает и покупает. Серебряный Сакре-Кёр в виде подвески для ключей. Вандомская колонна, мраморная, для карандашей. А это Дом Инвалидов с открывающимся золотым куполом. По-моему, пепельница. - Или плевательница. - Когда она успела переодеть юбку? Смотри, выпуклый мощный зад прикрывает, волнуясь, вокзал Сан-Лазар. - Гляди, она выше всех. - Она растет, ей приходится нагибать голову под сводами галереи. - Она не умещается. Она сует свою мясистую ручищу в двери сувенирной лавчонки и захватывает горстями всю эту металлическую и пластмассовую мелочь. - Продавцы суетятся где-то между ее ног. - Они в экстазе. - Они что-то выкрикивают. - Она шагает через поток автомобилей. - Они, пренебрегая опасностью, бегут,. лавируют и суют ей, цепляют на нее, бросают вслед значки, часики, клипсы, шарфы, платки, пончо и все, все... - Зачем они это делают? Что с ними? - Эта огромная женщина... - Кто она? - Эта женщина - Париж. - А они? - А они парижане. Золотой погребок Но есть там дальше, в путанице старинных - узких, окно в окно, - переулков гораздо менее известный "Золотой погребок". После полуночи сюда подъезжают и подходят странные личности, однако все во фраках, в черных вечерних туалетах. Один в непроницаемых темных очках, притом однорукий, другая со склеротическим оплывшим лицом, больная базедовой болезнью. Третий при каждом шаге и движении весь скрипит, похоже, на искусственных шарнирах. А эта молодая, красивая, тусклые волосы падают длинными прядями на крупный жемчуг, на обнаженные покатые плечи, объясняется на пальцах - немая. Внутри, под низкими арочными сводами, во всю длину помещения накрыт стол, уставленный длинными пыльными (чтобы видно было - вино старое) бутылками. Сверкает хрусталь и фарфор. Чего здесь только нет. Нет, я не буду перечислять всего, но икра и семга, спаржа и трюфеля - всегда. А главное, торжественно вносят при свечах под аплодисменты присутствующих "фрут де мэр": креветки, устрицы, улитки, омары, раковины Сен-Жак - все это блистает, и дышит, и переливается перламутром горой на огромном подносе, как на взморье во время отлива. Странные гости хватают руками икру, пьют, расплескивая шампанское, мужчины вытирают жирные пальцы о смуглые плечи дам, но те не обижаются. Все друг с другом давно знакомы. Там ссорятся, тут обнимаются и целуются. Веселятся все. И всю ночь. Одна особенность. Сыров там не подают. Никогда. Однажды произошел-таки казус. Кто-то, кажется, кем-то приглашенный, что очень редко случается, в общем, посторонний, попросил официанта принести ему сыра, как это и полагается в конце трапезы. Соседи посмотрели на него, будто он произнес что-то в высшей степени неприличное, сморщили носы - и отодвинули стулья. - Гарсон, мне - камамбер! - взывал непосвященный в наступившей громкой тишине. Метрдотель устремил на него холодный взгляд, ничто не шевельнулось в его бывалом сизом лице. А кучерявый смуглый гарсон наставил на него палец пистолетом и сказал: - Пу! Посторонний смутился. Озираясь в недоумении, он явно не понимал, что вся та шикарная веселящаяся публика - парижские нищие. И никто из них не хотел, чтобы запах сыра ощутимо напоминал ему о ежедневной работе, о немытых тряпках, которые днем выставляет он напоказ. С помойки - Отличный свитерок. - И эти джинсы с помойки. - Нормальные джинсы. - И плащ, посмотри. - Модный плащ. А где эта помойка? - Эта на улице Клиши. - А в прошлый раз? - В прошлый раз я на Барбес своих из Москвы возила. - Ходят теперь по городу, никому невдомек. - Как от Кардена, я умею выбирать! - И подумать, не дороже десяти франков. - А хочешь пять? - За пиджак? - За пиджак. - Ну, ты гений; - Не я гений, просто здесь надо все знать. - А на тебе тоже с помойки? - Да ты что, слепая? На распродаже в галерее Лафайет купила. Вот и фирма всюду спорота. - Действительно, спорота. - Нет уж, парижанки с помойки не одеваются. Если что надо, они ждут. Видела, как роются, копаются в кофточках, когда сейл? - Да, хуже наших. - А ты - с помойки! - Нет, что ты, я вижу, на тебе все фирменное. Только фирма спорота всюду. После шлепая к метро. "Конечно, с помойки. И модная кофточка, шелковая, с помойки. И кружевной воротник с помойки. И туфли с золотым ободком. А лисья шубка и подавно. Все парижские помойки облазила и нашла. Зубы мне заговаривает. Что я, не вижу?!" Мадемуазель Пи-пи Такую француженку я увидел в общественном туалете в саду Тюильри. Произошла некоторая неловкость, послужившая поводом к нашему знакомству. Я порылся в кошельке и не нашел трех франков за кабину. (Кстати, всюду - два, а в коммунистическом Сен-Дени вдвое дешевле - один, могу засвидетельствовать.) Я пожал плечами и молча показал дежурной банкноту в 500 франков, все, что у меня было с собой. Размена у нее не было. Молодая женщина мило улыбнулась и показала мне, так же молча, что в кабину я могу пройти бесплатно. Видно, я тоже произвел благоприятное впечатление. Или банкнота*. Так мы, можно сказать, познакомились. Придя сюда в следующий раз и увидев ее, я объяснился на своем скудном французском. - Завтра могу, - сказала она, снова улыбнувшись так мило, что отражения ее улыбки просто заплясали в белом кафеле. - Завтра дежурит другая. - Ваша подруга? - глупо спросил я. Во всяком случае, я хотел это спросить. - Нет, - терпеливо улыбалась девушка. - Она не моя сестра. Она старушка, но помнит лучшие дни. В общем, мы договорились встретиться у золоченых ворот Тюильри. На следующий день в синем зимнем небе летели океанские длинные облака, которые уже подрумянивал закат. Было холодно и ветрено. Мы шли наугад сквозь вечерний Париж, во всяком случае, я шел наугад. Мы перекидывались отрывистыми фразами, во всяком случае, она их бросала. И такие близкие улыбающиеся губы. Я ее поцеловал. Это вышло естественно, как "привет" или "спасибо". По-моему, она даже сказала мне "пожалуйста". Мы шли и целовались в сумерках. И рядом, обгоняя нас и навстречу шли вечерние пары. И тоже останавливались и целовались, и даже на ходу. Это было чудесно, но замерзли мы отчаянно. Я потянул ее в ближайшее кафе. Отогреваясь, я заказал себе и ей кофе. И арманьяк. Мы мило болтали. Во всяком случае, я пытался мило болтать. На все мои слова она улыбалась. Потом спросила, откуда я? Я сказал, что из России. - А я думала, вы американец. Из России - совсем другое дело, - улыбнулась она. И замолчала совсем. Все-таки странная девушка. - Дайте франк, - попросила вдруг. - Зачем? - испугался я. - Я хочу пи-пи, - со спокойной улыбкой объяснила она. Я помахал перед ее носом бумажкой в 500 франков. - Гарсон, - позвала официанта девушка. И протянула ему мою бумажку. Тот поднес ее к близоруким глазам, покачал головой и вернул. - Почему? - Она нарисованная, мадемуазель. - Нарисованная? - Да, и причем коричневым фломастером. И написано что-то непонятное. - Это по-русски, - презрительно сказала девушка. Бросила мне мои 500 франков, порывисто поднялась, подхватила сумочку-портфель и толкнула стеклянную дверь кафе. Оставила меня наедине с официантом. Объясняться. Даже не спустилась вниз, куда указывала стрелка "Туалет". Бедняжка! Потом, в моих прогулках по Парижу, даже если меня очень прижимало возле сада Тюильри, я не шел в это серое аккуратное WC. Я бежал к большим черным деревьям, хотя там гуляющие шли со всех сторон. В Лувре Он был одного роста с Сашкой, моим внуком, и был выкован из серебра, серебряные латы и поножи, серебряный шлем и гордое юное серебряное лицо. Генрих IV - принц. Правда, Саша смотрел на него снизу, поскольку тот был на постаменте. Вот почему Сашка сказал: - Не воображай, самовар. - И состроил рожу в зеркальную броню. Серебряные пальчики сжали рукоять шпаги. Он был как живой. И поскольку он был как живой, он живо спрыгнул с пьедестала. - Защищайся! - Ну-ну, - вмешался я, - в наш век мальчики не дерутся на шпагах. - Ваш век, ваш век, - забормотал серебряный мальчик. - А на чем они дерутся? - Дуэль истребителей, - быстро сказал Сашка. - Вот твой истребитель, а вот мой. - И высыпал из бездонного мальчишеского кармана кучу металлических моделей, фигурок. - А это что? - принц схватил игрушечного робота. - Это биоробот, управляется на расстоянии. Смотри. Он идет и стреляет из обоих бластеров. Вот так! Боже мой! Хорошо, что Лувр уже закрывался и в новых залах, где стоит французская скульптура XV-XVIII веков, уже никого не было. Трещали автоматные очереди. Воздух с визгом рассекали самолетики, пролетая над головами Вольтеров и Мольеров. Мраморные фигуры, по-моему, пребывали в шоке. Роботы шли на роботов. Монстры лезли на монстров. Железный тиранозавр рвал на части резинового динозавра. Мой внук был, конечно, половчее, ему же привычнее. Но юный Генрих IV хорошо расставил свое войско. Оно начинало теснить противника. На шум из дальних дверей уже бежали служители - негр и девушка в элегантной серой форме. - Аларм! Тревога! - закричал я. Серебряный мальчик мгновенно прыгнул на постамент и застыл профилем к окну. И игрушки сами, что ли, посыпались в карманы моему внуку. Во всяком случае, когда прибежали те двое, мы медленно выходили из зала. - Что здесь произошло? - строго закричала девушка. - Кажется, сюда залетел голубь, - наугад ответил я, направляясь к выходу. Негр и девушка подняли головы туда, к темной стеклянной кровле, пытаясь разглядеть и найти виновника переполоха. Вот и говорите после этого, что войн скоро не будет, когда это в самой природе, в любом, даже серебряном, мальчишке. Из другой эпохи - Смотри, дед, это ящер, - прошептал он. - Динозавр. Я не удивился. После новой американской кинокартины Париж наполнился доисторическими чудищами: в витринах магазинов, ресторанов, на рекламах и вообще повсюду. В прошлый мой приезд Париж был желто-зеленого цвета и только что не прыгал по-лягушачьи. Лягушек и сейчас можно встретить, но без прежнего восторга. - Где? - спросил я. - Вот, за столиком, - показал внук. - Во-первых, это женщина, а не динозавр, - возразил я, - а во-вторых, это Дина, моя знакомая. Привет! Дина обрадованно закивала нам. В своем умопомрачительном пиджаке в черно-белую клеточку, длинная, в сапожках из крокодиловой кожи и с такой же сумочкой, она действительно была похожа на большую ящерицу. Продолговатое увядшее, покрытое легкой сеткой морщин лицо дополняло сходство. Я заказал себе пива, Сашке - бутылочку оранжа. Мы с Дианой оживленно беседовали, конечно, об общих знакомых, естественно, о давних знакомых. Как, кто с кем, когда, почему, куда уехал, как теперь, не вышло, бодрится, бедняга. Сашка глядел на Дину большими глазами. - А вы из какой эпохи? - неожиданно спросил он. - Из какой эпохи, малыш? - изумленно поднялись нарисованные брови. - Хм, видимо, из той же, что и твой дед. - Нет, что ты, - поспешил я, - ты прекрасно выглядишь. - Действительно, - грустно улыбнулась Дина. - Мы им кажемся мастодонтами. - Вы - добрый динозавр, - проницательно произнес внук. - Динозавр? - растерянно заморгала она. - Вот почему тебя зовут Дина! - засмеялся я. Она помолчала немного. - А что, может быть, вправду я теперь Дина-динозавр? Не возражай. Она первой поднялась и вышла из кафе. Я смотрел ей вслед и думал, что впервые вижу динозавра с такими долгими красивыми лодыжками и походкой манекенщицы. Все-таки она была определенно более человеческим существом, чем те, о которых мы с ней перед тем говорили. Вот уж где когти и зубы, броня и зубцы. Ударом сильного хвоста они перешибут любую репутацию, сломают любую судьбу. Что делать, борьба за выживание в сильно похолодавшей обстановке. Бронтозавры. Те, кому удалось зацепиться, держатся изо всех сил. Видимо, я произнес последние слова вслух, потому что внук сказал: - А бронтозавры не живут на деревьях. - Ну да, броненосцы, - рассеянно ответил я. - И броненосцы не живут. - Тогда ленивцы живут. С этим Сашка был согласен. А я подумал: "Ленивцы вообще всюду живут: и во Франции, и в Германии, и в Америке, если на "социале". А в Берлине у меня живет друг-толстяк, поэт, добродушный ленивец. Позавидуешь. Живет и в ус не дует, конечно, если у ленивцев есть ус. В метро Спускаюсь в метро. Зеленый билетик с полоской затягивает щель магнитного контроля, подхватываю его, вылезающего дальше, резиновые тиски пропускают меня - я уже там. Поезда ждать долго. На одной из скамеек лежит пьяный нечесаный клошар, подогнув босые ноги, под головой - рука, под скамейкой - пластиковая бутыль, на треть - темного вина, "клошарское", и разбитые туфли. Черной пяткой он почесывает во сне лодыжку другой ноги, блаженствует. Прохожу следующую - пустую - скамью. На третьей меня ждет сюрприз. Под мертвым светом неона вольготно, как под солнцем юга, расположились две девушки - юные красотки. Совсем голые, тоненькая полоска купальника, смуглые, ладные, длинные, только что, видимо, из моря: на теле, на плечах, на широких волосах поблескивают капли. В Париже можно увидеть все, но это, по-моему, чересчур. Одна, улыбаясь, молча поманила меня острым изящным пальцем. Я пробормотал "не может быть", однако подошел поближе. И тут увидел: молодые женщины наполовину высунулись из глянцевого разворота журнала "Ньюсуик", который кто-то оставил раскрытым на скамейке, прислоненным к стене. Невольно я оглянулся на спящего клошара, но тот был настоящий, слышно было по запаху. Я принюхался: даже слишком настоящий, такой немытый. Правда, под ноги он подложил себе газету. Нет, не может быть, чтобы какая-нибудь газетная публикация родила такого. Тут, шурша, подкатил почти пустой поезд. Двери за мной задвинулись. Там, на платформе, женщины разговаривали и смеялись мне вслед: ну что ж, не хочешь - не надо. Такое ведь не часто случается. Есть у меня смутное чувство, сожаление - упустил. Хотя теперь я допускаю, на меня навеяли все это картины моего старого приятеля - прославленного русского художника. Угощение - Вы расисты. - Ничего подобного, впервые слышу, не ожидал... - Хочешь вина? - Спасибо, что-то не хочется. - Вот у нас в Париже - и негры, и арабы, и поляки, и даже - видел этих приплюснутых? - полинезийцы... - Честно сказать, Ираида, они мне наших деревенских напоминают, только негатив. - Я и говорю, вы расисты! - Вот что я тебе скажу, ваши - все здесь у себя дома в Париже, а у нас в Москве все проездом. Почему бы не погулять, не пострелять, не пограбить? На чужбинку? - Вы там умылись в крови. Народ вам этого не простит. Выпей, выпей, это бордо. - Ну, хорошо, Ираидочка, за твой дом. - Визу, наверно, сразу дали. Возьми орешки. - Я вообще, ты же знаешь, всегда был далек от начальства... - Тогда был далек, а теперь всюду печатают. Читали. - Другое время наступило, и до меня дело дошло. - Вот я и говорю, и до тебя дело дошло. Побеседовали, послали... - Никто меня не посылал, я сам прилетел. - Прилетел, еще могилы не остыли! - Поверь, я сожалею, это трагедия... - Да я вас всех насквозь вижу! Бутерброд? - Да я... - Вы все... - Да кто... - И ты... Хочешь, бифштекс приготовлю - с кровью? И тут у него отнялся язык. Хозяйка квартиры вообще всегда была похожа на индейца - и смуглостью, и острым профилем. Но теперь она вдруг выдернула пестрое перо из диванной подушки, воткнула вкось в волосы. В руку сам влетел кухонный нож. Индеец крался к нему вдоль дивана, явно собираясь снять скальп. - Нет, не надо, пожалуй... А как дети? - Дети? Ничего дети, старшая скоро врачом станет, - ответил индеец, сверкая зрачками и растягивая губы в улыбке. - Младший, Сережа, кажется... - Сережа еще в колледже, ничего Сережа. Выпей еще. - А когда окончит? - Не доживешь... (Услышал или показалось?) - А помнишь, помнишь, Ниночка где? - Он поднялся и, стараясь не терять достоинства, начал отступать к дверям. - Мерзавка, с ней покончено. Что ж ты ничего не попробовал? - Спасибо. Вы как будто были лучшие подруги. - Получила свое. Предательница. - Вот уж не подумал... - Вы все такие... Вас всех надо... А пирожное, пирожное? Миндальное... Съешь! - почти вопила она, наступая на него. Человеческая маска определенно сползала. Он даже не мог себе признаться, что видит, как из-под нее лезет что-то мокрое, жуткое, сморщенное, какой-то животный комок. Рука между тем за спиной нащупала медную фигурную ручку. - Извини, я спешу, в другой раз. Он выскочил за дверь и уже на лестнице услышал нечеловеческий вопль: "А-а-а-а!" В дверь изнутри что-то шмякнулось. Наверно, бифштекс. Мраморная лестница, он бежал до первого этажа, хотя был лифт. Высокое зеркало в вестибюле отражало вечнозеленые заросли. "Вот она здесь и живет, в джунглях". Парижская улица как парижская улица, все время праздник. "Можно сказать, угостила, патриотка". Какой-то бред, морок. Кофейная чашечка и Париж Достал я ее однажды из горки, захотелось из нее кофе попить, что зря стоит, поставил на стол. И сразу тонким фарфором блеснула - отразилась в темном полированном дереве. Не успел кофе из кофейника налить и сделать первый глоток, как почувствовал: все вокруг быстро и неуловимо меняется; какая-то сила выламывает углы, раздвигает оконные рамы и небо, выдавливает из потолка старинные балки. Схватился за стул, а он уже другой - с выгнутыми ножками и кожаной спинкой. В кафе пахнет кофе. Девушка-мулатка неслышно движется за стойкой у аппарата, момент - и ставит новую дымящуюся чашечку. Посетители входят, выходят, стеклянные двери мелодично отзванивают. Рядом, у самого локтя, в синих сумерках проясняется улица, столики на тротуаре и вереница оставленных здесь авто. Напротив лавка араба; свет оттуда выхватывает оранжевое, зеленое, коричнево-красное - апельсины, лимоны, яблоки на лотке. "Надо же, - подумал я, - одна кофейная чашечка образовала вокруг себя целый Париж. Даже кофе не успел остыть". Балалайка Приезжали и приходили довольно дружно. Наскоро осмотрев первый зал с картинами, русские люди влеклись к вину и закускам. Нарочито громкие приветствия, крики удивления, улыбки, а глаза по большей части - равнодушно, вскользь, мимо лица. И все здесь знали: эта не любит этого, а тот того терпеть не может. Однако никому это не портило настроения. Наоборот, будет о чем посудачить. Зал быстро наполнился несколько потертым, стареющим народом, но бодрым и всегда готовым на любой скандал. Можно сказать, пришли все. Вот пожелтелый Максим Максимович вельможно сует сухую ручку топориком. Часто-часто сыплет новости вездесущая толстуха Рита, такая матрешка с наглыми бирюзовыми пуговицами. Явился и уважаемый маэстро Вольф, он всех выше, поблескивает иссиня-бритым черепом. Безымянный художник Дед Мороз - где бы выпить. Гостья из Москвы с дочерью. "Полина! Полина!" - перекрывая шум и гам. Устроители встречали на лестнице знаменитого писателя, профессора Сорбонны, шепот: "Пришел, пришел". А тот, длиннорукий гном-лесовик, выросший в человека, хитро и добродушно посмеивался небесно-голубыми глазками из белых волнистых зарослей. Будто бы он здесь вообще по ошибке, не туда зашел. Грянули бубны. И повлекся к микрофонам пестрый переплеск рубах и платков, русские цыгане из ресторана "Балалайка". Как волна, прокатилось в публике радостное предвкушение. Первый пляшущий, вернее, делающий отчаянный вид, говорят, сам хозяин. В опереточной поддевке и картузе, нагло-благородное лицо, будто опоздавшее на полвека. Взмахнула черными, чересчур длинными косами певица. И вот уже, гремя и распевая, несут поднос, на котором сиротливая искра - рюмка водки. Кого-то чествуют. Нет, не может быть! Что они поют? "Выпьем мы за мэра, мэра дорогого..." Из первого ряда поднялся востроносый француз в сером костюме и бойко опрокинул рюмашку. Псевдоцыганка губами прикоснулась куда-то мимо щеки к седине, поцеловала. Затем мэр произнес краткую речь. И снова заиграли, запели. Песни, романсы, старину. Из бумажных стаканчиков проливалось темное вино, в публике подтягивали, подпевали вполголоса, переглядывались, как заговорщики: вот, мол, мы какие, вот, мол, мы как - на глазах заблестели слезы. - В "Балалайку" ходить дорого, франки жалко, а здесь задаром, вот и растрогались, - произнес над ухом какой-то местный циник. Между тем артисты сошли с эстрады и двинулись по проходу между стульями, играя и пританцовывая. Многие встали с мест. Цветастый кортеж пересек коридор и заплясал там, на выставке, среди холстов и картонов. Затем, играя и танцуя, они вошли в большую синюю, висящую низко картину, изображавшую зиму, и затерялись там среди снегов и деревьев. Последней, взмахнув платком, исчезла молодая певица. В картине погас алый мазок. И оборвалась песня: "Кому пиво пить? Кому пьяну быть?.." И сразу, с ненавистью глядя друг на друга, все заговорили, загомонили с новой силой. Я уехал из Парижа, так и не узнав, открылся ли после этого вечера ресторан "Балалайка" и какой там оркестр, старый или новых набрали. Старый барак - Пройдемся. Я тебе Париж покажу. - Надо бы купить бутылку вина. - Зачем? У нас вот, фляжка кальвы. - "У них с собою было". - Вот именно. - Это Севастопольский бульвар, я знаю. - А там, через дорогу, Леаль, чрево Парижа. - Где ж оно, это чрево? - Вот на этом самом месте было. Снесли давно. - Выпьем, стоя на чреве. - По глотку. - Смотри, ты льешь на мостовую, Оскар. - Пусть и чреву достанется. - А что там за собор? Розовый... - Сан-Усташ. - Каменная голова перед ним лежит, будто прислушивается. - Это современный скульптор (называет имя). - Выпьем, Оскар, лезь на голову. - Залез. - По глотку? - По глотку... Там дальше, Генрих, мушкетерские места, говорят, д'Артаньян жил. За поворотом. Нет, дальше, кажется. - Давненько читал. - И я, помню, летом, в Лианозово. Сижу у окна, перед глазами барак, а я читаю про Пале-Рояль. - А сейчас перед глазами Пале-Рояль, так выпьем за Лианозово, за юность, за барак, в конце концов... По-клошарски... - По-клошарски... - Все. - У меня еще одна фляжка. В другом кармане плаща. - Где же наши мушкетеры? Позавидовали бы нам сейчас. - По кальве? - По кальве. - Ты, Генрих, прости, но теперь ты стал похож на Портоса. - А ты всегда был похож на Атоса. - Прежде ты походил на д'Артаньяна. - А Холин? Тот все-таки был похож на Мушкетона. - Выпьем? - Выпьем... Где же наш квартал? - Сейчас, за этим кафе. Нет, не то. Мы совсем не туда забрели. - А где мы сейчас? - Мы в старом еврейском квартале Марэ. Смотри, какие толстые стены, узкие окна-бойницы, башенка на углу. - Смотри, а это барак! Оскар, это же барак. - Длинный, желтый, что-то не помню здесь такого. - Но это же твой лианозовский барак! В котором ты жил! Тридцать лет назад! Вот и дверь, квартира #2, сейчас войдем, а нам навстречу - Оскар и Генрих, только юные, тощие, с удивленными глазами. Вот и повстречались, голубчики. - Зачем встречаться со своей молодостью? Они под Москвой, а мы в Париже. У них еще все впереди: и свет, и надежды, и целый мир. Зачем нам рассказывать им, как все будет на самом деле? Лучше выпьем. - По кальве? - По кальве. - А как же наш барак? - Барак - это обманка. Вспомнил, я его сам написал на щите на заборе для парижан. Да они не понимают. Видят длинный дом, а что это - не догадываются. Скорее всего, пакгауз, ангар, думают. - Пусть так думают, для них лучше. - Выйдем на набережную к букинистам, Сеной подышим. Не с той стороны Сел я на электричку, кажется, в Барвихе, подошла - и сел, не раздумывая, лицом по ходу поезда, со стороны платформы. И напрасно, оказалось. Мелькают с моей стороны березовые рощи, внизу - шоссе. Черный снег на откосах, а вот и двенадцатиэтажные бараки. "Вороны каркают хрипло, как пропойцы, а пропойцы, растопырив руки, шлепают по лужам, как вороны", - думаю я, скользя краем глаза по наскучившему пейзажу Подмосковья. И тут я посмотрел в стекло напротив и чуть было не свалился со скамейки. Там за окном проносилось, теснилось - узкие серые средневековые здания, такие характерные, с горшками-трубами на высоких черепичных кровлях. А вдали высилась она! Нет, не Останкинская, Эйфелева башня. Быть того не может! Рядом, у плеча - куцее Кунцево, а напротив - щеголеватый Париж! В вагоне почти никого. Тетка в сером платке, укутанная, как в мороз, дремлет в конце вагона по моему ряду. Так что все вроде нормально, Москва. Но через проход - на фоне парижских зданий мужчина в синей канадской куртке читает газету. И главное, далеко, не разглядишь заголовки, может быть, "Фигаро". На остановке вошли два араба и одеты легко. Один в берете. Ну конечно Париж! Вот так я и ехал до самого вокзала. Рядом со мной разворачивались неприглядные мартовские задворки. Грузовики плыли по шоссе, брызгая снегом, грязью и водой. А там - на той стороне - плыли верхушки зеленых деревьев в сумерках, я догадался, знаменитые парижские бульвары, свечи каштанов, и бежали огни, огни... Стоп. Я сошел и влился в толпу на Белорусском вокзале. Теперь я думаю, не с той стороны я сошел. С другой стороны я бы точно вышел на Гар дю Нор. * Я со своей стороны готов был ретироваться к большим черным деревьям, хотя туда гуляющие шли сразу со всех сторон. |
| Вернуться на главную страницу |
Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
Генрих Сапгир | "Летящий и спящий" |
| Copyright © 1997 Сапгир Генрих Вениаминович Публикация в Интернете © 2000 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |