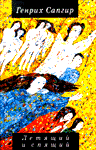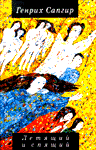СОСЕДИ
1
Когда взлетал и метался смычок, все на ней скособочивалось постоянно. Вот и сейчас батистовая блузка сползает, обнажая смуглое мальчишечье плечо и зеленую бретельку. Кисть со смычком все выше и острее. Раздражающее желание - встать, подойти и поправить. Но между нами несколько рядов внимательных к музыке затылков. Сейчас никак нельзя. Все посмотрят, как на сумасшедшего. Но что мне делать, так и подмывает. Я уже не вслушиваюсь в беспокойно пляшущую тему, я смотрю поверх голов на зеленую бретельку. И мне кажется, я знаю, что там происходит ниже: блузка слева измятым концом вылезла из-под юбки, которая вся сбилась, колготки морщат на коленках, и вся она напоказ.
- Маша!
- Алло, кто это?
- Я хочу тебя видеть.
- И я тоже.
- Ты можешь говорить?
- Не совсем.
- Я люблю тебя.
- Можешь быть уверен, я думаю то же самое.
- Тут посторонние.
- Как всегда.
- Тогда целую... всюду...
- Спасибо.
И положила трубку.
И вот в пыльном мельтешащем свете юпитеров, до того ярком, почти черном, над угловато торчащим плечом скрипачки возникла узкая бледная кисть руки, лишняя, чужая. На мгновение. Но в это мгновение ты почудилась мне длинной нелепой куклой - марионеткой: игрушечная скрипка прижата подбородком, локоть ходит на веревочках, и вся одежда - лоскутки на деревянном туловище. Одним движением одернута блузка - и бледная кисть неведомого кукловода исчезает. Не знаю, успел ли кто заметить, уши их слушали музыку, очи их видели музыку. Но твои глаза как-то испуганно округлились, впрочем, тебе было некогда, музыка привычно уносила, затягивая в свою вихрящуюся воронку. Ты - этакая деревяшка, вращаясь, улетала туда - в лазурный клубящийся свет. Две темы между тем сплетались, как витой аксельбант, две золотые тесьмы - радость и страдание. И смычок так нервически трепетал в твоей руке, что - тысяча смычков расходились из нее полупрозрачным веером.
2
В следующий раз, да, вскоре был следующий раз, когда я лежал раздавленный радикулитом на своем диване ничком, соседи (так я их прозвал) также дали знать о себе. Шторы на обоих окнах были задернуты, и в комнате жила и двигалась полутьма, как третий молчаливый жилец.
И вот что удивительно, тело мое пресмыкалось под пледом, будто ящерица, а голова парила среди звезд и свободных форм. И приходили счастливые мысли, которые и вели себя, как все счастливые мысли, - обозначали себя намеком и были готовы исчезнуть. Надо было верно почувствовать и запечатлеть их, иначе скоро изглаживались - следы на песке в полосе прибоя.
- Маша, - позвал я негромко. Очевидно, она была на кухне.
- Маша, - я не мог позволить себе крикнуть, чтобы не спугнуть свои мысли.
- Маша, - приглушенно и на этот раз. Не слышит. Они уже истлевают, коробятся под бесцветным пламенем, буквы еще белесо проступают, но вскоре рассыплются пеплом.
Я вижу на столе силуэт пишущей машинки, расстояние почти в два метра отделяет меня от нее - бездна. Каждое усилие подняться распластывает и прижимает меня к дивану новым приступом боли. В каретке, как нарочно, торчит белый листок. Но все напрасно, мой хребет не хочет принимать вертикальное положение, он боится боли, он больше не хочет боли, он хребет рыбы, лягушки...
Вдруг каретка задвигалась, клавиши легонько застучали. Превозмогая судорогу в шее, я приподнял голову. В полумраке комнаты белеющие манжеты - две руки печатают текст. Каким-то образом мне известно: это мое, мой текст. Но меня это не радует. Руки мужские, незнакомые и выглядят устрашающе. Поблескивают запонки, но где остальное? А может быть, это отсвечивает ложечка в стакане, металлическая сахарница.
Во всяком случае, когда дверь приоткрылась и в комнате появилась Маша, стук машинки сразу прекратился.
- Ты печатал на машинке?
- Дай мне, пожалуйста, этот листок.
- А как же ты вставал?
- Не знаю: я не вставал.
- Больше не вставай, тебе нельзя.
- Лучше поцелуй меня, сразу все пройдет.
3
Что у стен бывают уши, я знал. Но что в стенах и вообще в окружающих предметах могут появляться глаза, было для меня неожиданным открытием. Есть в Европе магазинчики СОХО, где продаются разные забавные нелепости, предметы для розыгрыша: пищащие мешки, банки с воздухом Ниццы или глаза на веточках. Так вот, это было похоже, но совсем не забавно, потому что в самом деле, а не понарошку.
Вечером я принимал душ, стоя в нашей ванной. Легкие горячеватые струи омывали мое уставшее за день тело, которое при тусклом свете туманной лампочки казалось гораздо смуглее, чем на самом деле.
Глаз вылупился прямо посередине кафельной плитки, как желток из скорлупы, и, не мигая, уставился на меня.
- Кто? Что? Убирайся! - в панике забормотал я и невольно прикрыл бесстыдный глаз мокрой ладонью. Под рукой была гладкая плитка - и ничего более.
Глаз вылез несколько повыше все такой же желтый, как светофор. Струи воды били в него в упор и текли вниз по кафелю - не закрывался. С неожиданным для себя проворством я схватил мочалку и стал яростно тереть по плиткам. Так я и думал, это не приносило ему вреда.
Некоторое время мы смотрели друг на друга: живой с желтизной человеческий глаз в кафеле и я, обливаемый струями горячей воды. Глаз мигнул.
- Я понимаю, - говорил я негромко и быстро. - Ты здесь рядом, но в то же время недостижимо далеко, ты изучаешь меня, возможно, я такой же, как ты, может быть, я кажусь тебе чудовищем, или сам ты не показываешься мне, потому что диковина и урод, с моей точки зрения, но, согласись, у нас есть общее, твой глаз не может принадлежать спруту или быку, он выражает мысль и любопытство, но, возможно, это мой глаз каким-то образом отражается на влажном кафеле...
Глаз снова подмигнул и потускнел, будто хотел сказать: "Ерунду говоришь, приятель, и вообще..." Глаз стал быстро покрываться патиной, словно известковой пылью, побледнел, побелел, изгладился. Безликий безвидный кафель.
- Что ты там кричал сквозь шум воды? - спросила она. - Монологи самому себе произносишь?
- Я говорил, что люблю тебя, и ты услышала.
- Да? Приятно слышать. Но ты словно сердился.
- Я сердился, что ты не можешь слышать меня.
- Я всегда тебя слышу.
И позже, лежа рядом в темноте, я не мог отделаться от ощущения, что нас созерцают - и темнота этому не помеха. Возможно, у них, у соседей, инфразрение. И сейчас они видят наши красновато-сине-желтые тела, руки, ноги, сплетающиеся на светлой простыне и ласкающие друг друга, может быть, видят мое прикосновение, и вот-вот сейчас извержение и замирание, очерченное каким-нибудь светящимся пунктиром. А ее ярко-лиловые волосы! Ее лиловые волосы! Как взрыв...
И совсем потом, легко уплывая во тьму, я бегло подумал, наверно, она притягивает их, ведь есть же в ней что-то магнетическое, ведь она сама как музыка - длится и переходит из одного в другое, темы переплетаются - и хочется, чтобы это никогда не кончалось.
4
И снилось мне, что мы - в лесу идем по непросохшей после дождя проселочной корневистой дороге, чтобы успеть к электричке. Потому что потом электрички долго не будет, может быть, сегодня уже всё. Что-то мы там собрали в лесу: то ли грибы, то ли какие-то патроны, а возможно, это были грибы, которые взрывались, прячем их в пакетах, друг другу не показываем. Для тебя очень важно попасть к электричке, а мне все равно, даже лучше, если мы заночуем на этой дощатой богом забытой станции. И ты сердишься, что мне все равно. Ты торопишь меня. "Тебе все равно, - говоришь ты на ходу. - А они там без нас пропадут". Я понимаю, что они пропадут, и не то чтобы мне их не жалко было, а какое-то нехорошее предчувствие сжимает сердце. Ты ускоряешь шаги, я тороплюсь за тобой, ты почти бежишь. Все кругом потемнело, будто сумерки или большая туча над лесом. За елками где-то гудит. Твой тяжелый пластиковый пакет прорвался, вижу, оттуда лезет коричневая крутая шляпка, вот-вот выпадет. "Сейчас мы взлетим на воздух!" - в панике думаю я и бросаюсь вперед. Успеваю подхватить толстый боровик, который уже пошел зелеными пузырями, но спотыкаюсь о скользкий корень и падаю, не выпуская его из рук. Вижу тебя, ожидающую меня с явной досадой. И вдруг передо мной - карта, где боковая координата - время, а нижняя - пространство. И в этой расчерченной сетке: и лес, и мы с тобой, и те, которые ждут где-то на чердаке, и те, которые ищут, окружают, и столбы с проводами, и мчащаяся электричка. И вижу, твоя фигурка совмещается с передним вагоном. Это конец.
Мигом вычисляю по системе координат: "Станция Лесная, девятнадцать пятнадцать". Это сейчас.
- Девятнадцать пятнадцать! - кричу я, бросаясь к тебе и хватая тебя за руку. - Никуда я тебя не пущу! Девятнадцать пятнадцать!..
Но я схватил воздух, ты ускользаешь, электричка стучит совсем близко, все совмещается... и с криком я просыпаюсь.
То, что она скатилась на край кровати, свесив голову и руку, было для нее обыкновенно. Но кто-то лежащий между нами моментально поднялся в воздух и неслышно растворился в темноте на фоне окна. Я успел его уловить краем глаза, клянусь. Нет, я почти ручаюсь, кто-то сотканный из тонкой плоти лежал здесь и подсматривал мой сон. Мне эти соглядатаи уже начинали надоедать.
5
Сначала второе лицо стало просматриваться на фотографии нашей погибшей овчарки, вернее, вторая морда. Гляжу на фото и вот вместо благородного профиля вижу повернутую ко мне хитрую усатую какую-то плебейскую физиономию с острыми ушами. Я уж промаргивался неоднократно, все равно.
А пятна сырости на стенах, смятая одежда на стуле, почему они обращают к нам свои устрашающие лица? Боюсь, так проявляются те, другие.
У твоей скрипки обозначилось и очертилось лицо. Длинное, унылое, гладкое лицо красновато-желтого дерева. Когда ты подносишь ее к подбородку, она вытягивает губы и быстро чмокает тебя в шею. Вот и отметина красная.
Когда скрипку помещают в футляр, она смотрит оттуда, как старинный портрет из узкой темной рамы или из окна. Что она живая, у меня и прежде не было никакого сомнения. Но с некоторых пор я стал ловить себя на мысли, что ревную тебя к инструменту, не хочу, чтобы ты играла.
- Часами упражняешься. Ты погубишь свое здоровье. Может быть, поедем куда-нибудь?
- А как же я буду играть на конкурсе?
- Но надо же и отвлекаться. К тому же мы сегодня, если ты помнишь, обещали.
- Не хочется что-то, там всегда скучно, даже когда весело.
- Но сегодня там кое-кто будет. Звонили.
- Знаю я этого "кто-то", еще часок.
Через час.
- Все. Давай собирайся, не успеем.
Я отбираю у тебя скрипку, будто в шутку, но когда хочу положить инструмент в футляр, струна с визгом обрывается и больно стегает меня по руке и лицу.
- Твоя скрипка ударила меня!
- Вот негодная.
- Она нарочно!
- Не будь ребенком. Где? Сейчас заживет.
Ты целуешь меня в горящую полосу на щеке, и вправду она утихает. Я поворачиваю тебя к себе и долго целую. Наконец-то я чувствую твои губы своими, всю тебя. Теперь я бросаю на твою скрипку злорадный торжествующий взгляд. Вид у нее брезгливо-недовольный, вытянутая физиономия.
- Смотри, она сердится.
- Это потому что хозяйка уходит в гости.
- Ты думаешь, она скучает?
- Она всегда. Потому и не слушается, когда возвращаюсь. Звучит резко, мне назло.
- Она любит тебя. Тебя и вещи любят, и деревья. А меня - все норовят веткой ударить.
- Главное - чтобы я тебя любила.
- Нет, ты мне изменяешь.
- С кем же я живу, по-твоему?
- Кто тебя знает, может, со мной. А может, с тем, кто возникает между нами.
- Вот, я взъерошу ему волосы.
- Это ты - мне.
- Нет, ему.
- Ты видишь его?
- Я вижу тебя. Обними меня.
- Твои губы... Я готов без конца повторять: твои губы... Чувствуешь?
- Люблю твои руки.
- Это не мои руки.
- А чьи же они? Чужие?
- Это его руки. Тише, не спугни его. Вот сейчас он обнимает тебя. И целует. Блаженство. Раньше он этого никогда не испытывал... Он давно тебя любит, давно... Это я тебя люблю, это я...
Вдруг я с ужасом осознаю, что все это говорим и чувствуем не мы, что, возможно, нас подменили. Кто же? Кто? Наши незримые соседи? А где же мы? Сколько нас? Двое или четверо? Или мы затеряны в причудливых складках реальности, в бесконечной толпе наших повторений, изменений и лишь иногда находим и узнаем друг друга среди чужих и чужого.
Продолжение книги