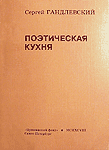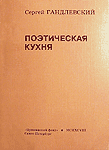Когда писатель по-настоящему нравится, завидуешь тем, кому его книги только предстоят, и признателен обстоятельствам, позволяющим что-нибудь из написанного этим автором прочесть впервые. Сейчас я имею в виду лекции и статьи Набокова о русской литературе.
Творческое всесилье Владимира Набокова изумляет и почти пугает. Есть что-то нечеловеческое, противоестественное в его вездесущем даровании. Будто Набоков предугадывает ход читательской мысли и опережает вероятные вопросы и недоумения, тем самым всякий раз ускользая от нашего исчерпывающего определения. Горизонт его художественных и личностных возможностей всё время отодвигается, и только высокий артистизм говорит нам, что - да, мы в пределах мира Набокова.
Белая кость и олимпиец, он посвящает Чернышевскому сонет такой красоты и великодушия, перед которыми меркнут все демократические славословья. На возможные упрёки в метафизической апатии он отвечает рассказом «Ultima Thule», обнаруживая выстраданную заинтересованность. В череде шокирующих своим имморализмом героев вдруг появляется Пнин, человечный и трогательный - вроде пушкинского станционного смотрителя. И так во всём. Пусть читатель, раздосадованный неуязвимостью и чрезмерностью прозы Набокова, откроет его стихи. Меня когда-то удивила и обрадовала эта лирика, чуть ли не есенинского трепета, непосредственности и даже беззащитности.
Набокову нравилось уподоблять писательскую деятельность труду фокусника. Не знаю, насколько это справедливо вообще, но сам Набоков, конечно, иллюзионист высшей пробы, подстать англичанину Дэвиду Копперфилду.
Проза, стихи, драматургия, теперь - литературоведение Набокова. Обращает на себя внимание почти утраченное современным искусством чувство меры, уместности. Вкус, как известно, - нравственность художника; в таком случае, ум художника проявляется прежде всего в выборе жанра и в соответствовании его требованиям. Нынешней размытостью стилевых очертаний мы обязаны Серебряному веку, но Набоков вслед за Буниным и Ходасевичем привержен традиционной жанровой определённости.
Именно поэтому его лекции - действительно лекции, а не художнические «взгляд и нечто», оставляющие после себя не сведения, а только послевкусие. Тон лекций не по-набоковски сдержан и не изобилует не уместной в научном труде образностью. Порою академическая выдержка изменяет Набокову - и мы узнаём льва по когтям: «Когда Тургенев принимается говорить о пейзаже, видно, как он озабочен отглаженностью брючных складок своей фразы; закинув ногу на ногу, он украдкой поглядывает на цвет носков».
Набокову-исследователю удаётся совместить пристрастность с добросовестностью: его кумир Гоголь в то же время по-человечески отвратителен, а ничтожный, с точки зрения Набокова, писатель Горький вызывает у автора сочувствие мытарствами своей молодости (кстати, поставленными под сомнение Буниным).
Но поклоннику Набокова в этой книге интереснее всего, разумеется, сам писатель, а не герои его лекций. Симпатии и антипатии Набокова могут сделать для нас понятнее личность автора. Интригует известная стойкая неприязнь Набокова к Достоевскому, уступающая в навязчивости разве что нелюбви к Фрейду. От раздражения потерявший бдительность Набоков замечает, что большинство героев Достоевского невменяемы, ставит им диагнозы по учебнику психиатрии. Если на то пошло, многие герои самого Набокова тоже не могут служить образцом душевного здоровья. Похоже, дело не только в литераторском неприятии, но и в ревности к Достоевскому, обладающему, по общему признанию, монопольным правом на живописание психического подполья. Кажется, что набоковский культ собственного душевного и духовного здоровья, снобизм, джентльменство были мучительной, затянувшейся на целую жизнь попыткой скрыть от себя и от других серьёзное внутреннее неблагополучие, целые области которого, превращаясь в сочинения, отторгались с надеждой на избавление. Тогда понятным делается, почему топорностью своего учёного вмешательства возмущал Набокова «венский шарлатан».
Творчество Набокова можно рассматривать, как прощальный парад русской литературы XIX века, эссенцию классики, культурный уксус; отсюда - и блеск, и местами нарочитость. Непредвзятому и внимательному читателю литературная техника внезапного перехода из бодрствования в сон, из яви в бред, мастером которой был Набоков, приведёт на память как раз Достоевского. Равнодушие к цельному мировоззрению, вызывающее пренебрежение к сверхидеям напоминают о Чехове. А взгляд на мир с точки зрения болезни в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», «серый ландшафт боли», вспышка агонизирующего сознания, при свете которой жизнь и смерть внезапно оказываются вовсе не тем, чем принято было считать, обнаруживают безусловное родство со «Смертью Ивана Ильича».
Может быть, имелось гордое намерение: классический период русской литературы, начавшийся с пушкинской гармонии, гармонией же и завершить, но уже своей. Дерзкое начинание удалось. Почти. Парк и лес сходны во многом, подчас неотличимы. Но если в лесу нас впечатляет стихийная мощь, то в парке ценится не в последнюю очередь замысел и воля архитектора.
При чтении этих лекций охватывает сложное побочное чувство: восхищения? жалости? вины? Так и видишь, как наш гениальный соотечественник, лектор средних лет, из года в год поднимался на кафедру и терпеливо на английском языке объяснял доброжелательным и любознательным американским недорослям всякие диковинные вещи - от одержимости истиной до устройства и назначения коньков.
|