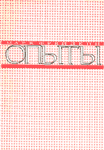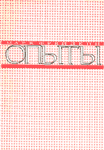К началу
Но что-то ничего подходящего не приходит мне в голову. Нет, конечно, всевозможных забавных и не очень забавных историй со мной и с моими друзьями случалось в этой жизни более чем достаточно, и, в принципе, любая из них под пером мастера, что называется, не испортит обедни. Тем более, в свете декларированных мной выше творческих установок на данное произведение, было бы естественней всего просто начать рассказывать первое, что подвернется под руку. Однако какой-то смутный, но совершенно недвусмысленный внутренний протест мешает мне сделать это. Иначе говоря, хочется здесь как-то схимичить. Хочется, чтобы эта история оказалась не только уместной и грациозной ретардацией, но и была бы впридачу "с тенденцией" и каким-нибудь хитрым образом перекликалась бы... Словом, вы меня понимаете... А с другой стороны, на кой черт это нужно? Уж если в самом деле рассказывать "историю из жизни", то рассказывать попросту, без всяких там выкрутасов и аллюзий. Как рассказывал мой любимый литературный персонаж фельдкурат Отто Кац: "Жил в Будейовицах один барабанщик. Вот он женился и через год умер". И точка. Вот это, я понимаю, образец повествовательного стиля. Правда, может получиться, что подобный чисто нарративный фрагмент в специфическом контексте моего произведения будет выглядеть несколько нарочито. А чересчур обнажать прием тоже нельзя, не то на таком эксгибиционизме погоришь в два счета. Вот, к примеру, Венедикт Васильевич Ерофеев. Уж на что собаку съел в изящной словесности, понимал это дело насквозь, вдоль и поперек, а в "Вальпургиевой ночи" самую малость дал слабину, пустил прием катиться по инерции - и вот вам результат; никакого сравнения с "Петушками". Так что здесь, конечно, нужно "блюсти препорцию" и тщательно все взвесить на беспристрастном безмене литературного вкуса.
Поэтому, после долгих колебаний, я решил рассказать одну вполне правдивую историю с несколько, впрочем аморфной фабулой (что, кстати говоря, свойственно многим правдивым историям) про человека, который очень любил петь разные популярные песни, арии и романсы. То есть он, конечно, не был профессиональным певцом и, безусловно, не обладал какими-то выдающимися вокальными данными, но в общем и целом интонировал довольно чисто. И вот он постоянно что-то такое напевал, совершенно, впрочем, не нуждаясь в слушателях и даже по возможности избегая их, Это вошло у него в привычку. Как писал Ю.Олеша: "Он поет по утрам в клозете". Так и мой герой. Вот, скажем, совершает он свой утренний туалет, чистит, к примеру, остатние зубы лечебно-профилактической пастой "Зодиак" и негромко, но с большим чувством, излагает:
Вспоминай, коли другая,
друга милого любя,
будет песни петь, рыгая
на коленях у тебя...
Или за рабочим столом, оторвавшись на миг от опостылевших бумаг (предположим, что мой герой был рядовым научным сотрудником и готовился защитить кандидатскую диссертацию на какую-нибудь более или менее бессмысленную тему, вроде "Усвоение основных элементов молекулярной физики детьми дошкольного возраста"), он вдруг поднимет голову и, безучастно и бессмысленно глядя в пространство, проинтонирует меланхолическим речитативом:
Я пока что живу в общежитии,
увлекаюсь своею мечтой
и ни с кем не свершаю соития,
но оно, несомненно, за мной...
Или, допустим, во время уединенной прогулки где-нибудь, я извиняюсь, на тихом берегу заброшенного пруда он смотрит, как играют на мутной воде блики неяркого осеннего солнца, и задумчиво мурлычет:
Или, представьте себе, прихорашиваясь перед свиданием с взволновавшей его женщиной, он стоит в прихожей у зеркала и, завязывая на коротковатой шее китайский шелковый галстук (золотые пагоды и малиновые драконы на нежно-зеленом фоне), многообещающе подмигивает своему отражению и с деланной лихостью во весь голос затягивает:
Или, в одиночестве вернувшись домой (а наш герой, замечу в скобках, имел несчастье страдать наследственным по отцовской линии метеоризмом - болезнью достаточно неприятной самой по себе, но особенно мучительной для тех, кто проводит много времени в обществе женщин) и облегчив, наконец, свой вспученный желудок, он с довольной улыбкой "начинает потихоньку напевать":
И потом, когда, немного разочарованный, но ничуть не печальный, он ложится в свою холостяцкую постель, перед тем как погрузиться в сладостный сон, он еще успевает в полузабытьи умиротворенно, но при этом мелодически чисто вывести:
А назавтра все начнется сначала, и, намыливая в ванной свои увядающие щеки гигиеническим кремом для бритья "Ромашка" и прислушиваясь, не кипит ли на кухне облупившийся чайник, он будет размахивать в такт жиденьким помазком и мужественно горланить:
Так он и шел с песней по жизни до тех пор, пока его в свой срок не постигла участь будейовицкого барабанщика. То есть, иначе говоря, до тех пор, пока он не умер. Я, правда, не знаю, успел ли он, подобно своему коллеге из Будейовиц, жениться перед смертью и, если успел, то была ли его смерть как-то связана с этой женитьбой. Но, тем не менее, он все-таки умер. Что ж, как утверждал Гиппократ (в переводе на латинский), "vita brevis, ars vero longa". И я не сомневаюсь, что если мой герой умирал женатым человеком, то на руках у безутешной супруги он еще успел перед смертью пропеть что-нибудь уж совсем непритязательное, вроде:
Вот такая у меня получилась отчасти печальная "история из жизни". Конечно, кто-то может возразить, что это никакая не "история из жизни", а чистой воды вымысел с примесью, вдобавок, довольно неуклюжей компиляции. Но это неправда - вымысла здесь нет и в помине. Те, кто хоть немного знаком с моим творческим методом и со мной лично, могут подтвердить, что я вообще неспособен что-нибудь выдумать из головы. Тем более в настоящем случае, когда прообразом моего героя послужил очень близкий мне человек, который к тому же, как явствует из моего рассказа, уже умер. А один из "семи мудрецов" (очевидно, Хилон) рекомендовал: "De mortuis aut bene aut nihil". Разумеется, здесь не обошлось без некоторой литературной обработки жизненного материала, но в целом, повторяю, ничего выдуманного в моей истории нет, и если я не сумел кого-то убедить, - что ж! - пусть это останется на моей совести.
Между прочим, у моего любимого Жоржа Брассанса есть одна прелестная песенка, сюжет которой почти дословно повторяет мой рассказ. Правда, в ней повествование ведется от первого лица:
Une mani' de vieux garcon,
Moi, j'ai pris 1'habitude
D'agrementer ma solitude
Aux accents de cette chanson:
Quand je pense a Fernande,
Je bande, je bande,
Quand j'pense a Felici',
Je bande aussi,
Quand j'pense a Leonore,
Mon Dieu, je bande encore...
Ну, и так далее. А что касается недоумения некоторой части читателей (один мой приятель с юных лет считает слово "недоумение" производным от слова "недоумок") по поводу бессмысленного и грубого (признаться, иногда эти тексты действительно несколько грубоваты) искажения цитат из популярных отечественных песен и романсов, то в этой связи я могу сказать следующее: подобная творческая переработка общеизвестных текстов (между прочим, не только песенных) - весьма распространенное явление нашей культурной жизни. Это один из немногих еще живых жанров народного творчества, который, в отличие от анекдотов, матерных частушек и блатных песен, почему-то до сих пор не привлек к себе внимания искусствоведов и фольклористов, хотя, безусловно, представляет не меньший интерес для вдумчивого исследователя.
Во многом этот жанр восходит к широко бытовавшей и бытующей в народном творчестве традиции создания комических неологизмов на базе "трудных" и якобы незнакомых слов (на самом же деле создатель неологизма не только сам знает действительное значение искажаемого слова, но и подразумевает таковое знание в слушателе - в противном случае не произойдет желаемого комического эффекта). Как известно, примеры подобных неологизмов во множестве встречаются у Н.С.Лескова, но, впрочем, не у него одного (ср. напр. у Н.А.Гвоздева: "Да я бы за это плюнул ему в его бесстыжую харизму!" или у А.П.Чехова: "Настюша..., возьми-ка, мать, спиртику и натри-ка мне спинозу!"). Более того, я склонен также считать далеко не случайным, что новейшие современные проза и поэзия во многом опираются на лежащие в основе этого жанра элементы центона, парафраза и каламбура, и это, на мой взгляд, самым непосредственным образом связано с общей "андеграундной" природой нынешнего литературного авангарда и подобной разновидности фольклора (ср. например, у Д.Пригова:
или у Вен. В. Ерофеева:
или у С. Довлатова:
В примитивных и, как правило, крайне вульгарных формах такие переделки популярных текстов очень распространены в подростковой среде. Вспомним, кто из нас в отрочестве не певал в пионерских лагерях:
или:
или:
или, наконец:
В более изощренных (хотя, на мой взгляд, в менее ярких) формах этот жанр распространен и в интеллигентских кругах. И надо сказать, что, в отличие от подросткового творчества, в котором даже неспециалист может услышать недвусмысленные отголоски юношеской гиперсексуальности, интеллигентский фольклор носит в большинстве случаев ярко выраженную политическую окраску.
Например:
От Москвы до самых до окраин,
с южных гор до северных морей
человек проходит как хозяин,
если он, конечно, не еврей.
Или:
или, уже из самых недавних:
Причем, зачастую при создании таких, с позволения сказать, злободневных политических памфлетов творческой переработке подлежат даже не какие-то отдельные строчки или строфы, а все произведение целиком. Достаточно вспомнить такие широко известные тексты, как "В Мавзолее, где лежишь ты, нет свободных мест" (кажется, автором этой популярной песни является В.Ковенацкий), или "Сотня юных бойцов из израильских войск".
Другим аспектом такого рода творчества, особенно распространенным в 60-70-е годы, была переделка популярных (преимущественно англоязычных) песен зарубежной эстрады. Причем, если применительно к творчеству "Битлз" такие переделки носили, как правило, омонимический характер (ср.:
We all live in a yellow submarine,
yellow submarine, yellow submarine,
we all live in a yellow submarine,
yellow submarine, yellow submarine.
Ты пришла и съела мандарин,
съела мандарин, съела мандарин,
а потом доела маргарин,
ела маргарин, ела маргарин.
или:
Oh dear, what can I do?
О, где водки найду?),
- то знаменитая в те годы рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" подвергалась и всевозможным смысловым переделкам, совершенно, впрочем, безотносительным к ее содержанию. Скажем, сцена заседания Синедриона ("What's then to do 'bout this Jesus of Nazareth..." ) почему-то превращалась в сцену консилиума врачей над телом Алексея Маресьева:
Хор хирургов: Отрежем, отрежем Маресьеву ногу!
Маресьев: Не надо, не надо - я буду летать!
Главный хирург: Но ваша гангрена внушает тревогу.
Маресьев: Так режьте же, режьте же, е6 вашу мать!
Существовал и травестийный вариант этого рода творчества. К примеру, один мой приятель развлекался переводами на английский язык популярных отечественных песен. Помню, в частности, его прекрасный перевод известной в свое время песенки "Хороши вечера на Оби":
Хороши вечера на Оби!
Ты, мой миленький, мне пособи.
Я люблю танцевать да плясать -
Научись на гармошке играть!
Oh, how nice are the evenings on Ob!
Please, my darling, do help me in my job.
I like singing and dancing and joy -
Learn to play the 'garmoshka', my boy!
Нетрудно заметить, что общей (и очень характерной) чертой всех вышеприведенных примеров является то, что они ни в коей мере не представляют собой целенаправленные пародии на свои оригиналы, как это бывало в относительно недалеком литературном прошлом (ср.:
Лишь раз гусар с улыбкой нежною,
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней рукой небрежною,
Скользнул - и поезд вдаль умчало.),
- что подтверждается и совершенно произвольным выбором объектов для переделок - ими могут служить, наряду с литературной классикой, и одиозные песни "гражданского звучания", и вполне безобидные эстрадные шлягеры. Единственное, но обязательное условие, sine qua non -это общеизвестность и мгновенная узнаваемость, которые в сочетании с резким смысловым сдвигом, усиленным, как правило, каламбурными и метаболическими элементами, и создают неповторимый катартический эффект.
Таким образом, мой бедный герой был нисколько не оригинален в своих невинных упражнениях - он лишь позволил себе сказать свое скромное слово на уже достаточно разработанном участке литературного творчества. Впрочем, довольно о нем (я имею в виду героя).
Хотя, если уж речь зашла о песнях, то мне бы хотелось сказать на эту тему что-нибудь еще - правда, я пока сам толком не знаю что. Просто с младенческих лет и по сей день я болезненно неравнодушен к этому виду искусства и не побоюсь признаться, что почти все наиболее значительные художественные впечатления моей жизни связаны именно с ним. Помню, еще в шестилетнем возрасте я не мог без слез слушать песню "Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?" И если бы когда-нибудь я задался целью составить список всех тех песен, которые в той или иной форме оказали влияние на мое эстетическое развитие, то это оказался бы очень длинный список. Гораздо длинней, чем список синонимов к глаголу "выпить". Причем стилистическая пестрота этого списка была бы просто невообразимой. Пожалуй, именно здесь эклектичность моего художественного сознания нашла бы наиболее полное выражение.
Впрочем, "эклектичность" в данном случае не совсем точное слово - на какого-нибудь не в меру строгого arbiter elegantiae этот гипотетический список мог бы произвести впечатление своего рода образца вкусовой неразборчивости или даже художественной всеядности. Я, разумеется, вовсе не хочу сказать, что мои песенные пристрастия лишены какой бы то ни было избирательности - напротив, она есть, и порой весьма прихотливая. К примеру, творчество некоторых признанных корифеев этого жанра - таких, как, допустим, В.Высоцкий или Б.Окуджава, - вызывает у меня только отрицательные эмоции, по поводу чего я неоднократно вступал в бесплодные дискуссии со многими моими друзьями и единомышленниками, и только печальный опыт этих дискуссий заставляет меня воздержаться сейчас от развернутых рассуждений на эту тему.
Я бы даже сказал, что пресловутая художественная всеядность как раз и заключается в специфике этой избирательности. К примеру, я с огромным наслаждением могу слушать "Мельник и ручей" Ф.Шуберта (в исполнении, допустим, Д.Фишера-Дискау), но ничуть не меньшее, а иной раз и большее удовольствие мне может доставить какая-нибудь совершенно непритязательная песенка, вроде "Позарастали стежки-дорожки". И я даже возьму на себя смелость утверждать (si parva licet compronere magnis), что это не такие несопоставимые вещи, как может показаться на первый взгляд.
Не говоря уже о несомненной (по крайней мере, для меня) травестийности понятий "высокого" и "низкого" в искусстве вообще, дело здесь, насколько мне представляется, еще и в том, что песня в принципе живет совсем по другим законам, нежели почти все остальные виды творчества. Любое произведение литературы, живописи и даже, с некоторой натяжкой, классической музыки, как бы это лучше сказать, почти всегда равно самому себе. То есть, когда писатель поставил на бумаге последнюю точку или художник нанес на полотно последний штрих, - произведение завершено, и дальнейшая его судьба, какой бы причудливой и богатой событиями она ни была, зависит уже только от всевозможных внешних и привходящих обстоятельств. Иначе говоря, если относительная художественная ценность такого произведения может изменяться под воздействием различных временных и субъективных факторов, то его абсолютная ценность - та эстетическая субстанция, которую в конечном счете оно и являет собой, - остается неизменной раз и навсегда.
С песней же дело обстоит как раз наоборот. Даже если авторы песни тщательнейшим образом зафиксируют ее текст, мелодию, аккомпанемент и подробнейшую аранжировку (а при современных технических средствах и какое-то конкретное исполнение), все равно никогда нельзя будет сказать, что произведение приняло незыблемую каноническую форму, как, к примеру, "Я помню чудное мгновенье" или "Горюющий старик". Все равно при каждом новом исполнении эстетическое содержание и художественная ценность этой песни могут настолько резко меняться, что, пожалуй, можно даже говорить, что вообще авторство каждой отдельно взятой песни носит довольно условный характер, а ее абсолютной художественной ценности попросту не существует. Так что пословица "из песни слова не выкинешь" применительно собственно к песне расширительному толкованию не поддается, не говоря уже об исторически сложившейся вполне конкретной текстуальной вариативности и стихов и музыки многих популярных песен.
Разумеется, если мы слушаем знаменитый спиричуэл "Jericho" в исполнении негритянского фольклорного ансамбля - это одно, а когда ту же вещь мы слышим в исполнении какого-нибудь, я извиняюсь, Дина Рида -это, к сожалению, совсем другое. Но даже если оставить за скобками талант, профессионализм и культуру исполнителя, то положение дел останется прежним. Вот, скажем, не менее знаменитая песня "Кабаре" в исполнении Лайзы Минелли и в исполнении Луиса Армстронга (или, например, песни Бориса Виана в авторском исполнении и в исполнении Сержа Реджиани), что называется, при прочих равных - это два совершенно разных эстетических феномена, не имеющих между собой практически ничего общего. И интересно, который из них формальные авторы песни должны считать своим произведением?
Конечно, бывают случаи (особенно в наше время, когда авторы песен стали часто выступать в качестве их исполнителей), когда какое-то одно исполнение настолько ярче остальных, что оно отождествляется в сознании слушателя с самой песней и как бы сливается с ней в единое эстетическое целое. Скажем, сейчас очень трудно себе представить, что песни Эдит Пиаф, Александра Вертинского, "Битлз", Жоржа Брассанса, Жака Бреля, Эвы Демарчик, Джима Моррисона и др. мог бы полноценно исполнить кто-нибудь еще. Но все равно это остается только одним из возможных вариантов, да и к тому же ни один исполнитель не споет два раза подряд абсолютно одинаково.
К чему я все это рассказываю? Я рассказываю это к тому, чтобы объяснить, что, на мой взгляд, любая хоть сколько-нибудь небездарная песня не адекватна ни самой себе, ни, тем более, составляющим ее стихам и музыке. И в этой связи расхожие рассуждения на тему, что в песне важнее - музыка или стихи, - мне представляются совершенно беспредметными. По большому счету не важно ни то, ни другое, и это не раз убедительно доказывали лучшие исполнители советской песни (в первую очередь, М.Бернес и Л.Утесов), которые порой умудрялись создавать полноценные произведения искусства "из такого сора", какого А.А.Ахматова, должно быть, и представить себе не могла.
Хотя, надо сказать, в целом советская песня как явление во многом опровергает мой тезис о том, что соотношение качества литературного и музыкального материала не имеет для художественной ценности песни решающего значения. На протяжении всей своей истории она (советская песня) за редкими исключениями представляла собой результат совместного творчества весьма одаренных композиторов и поразительно бездарных поэтов-песенников. И что характерно: какой бы немыслимо убогой ни была подчас продукция этих последних, диссонанс от сочетания хорошей музыки и плохих стихов все-таки оказывался в большинстве случаев не таким нестерпимым, как от сочетания плохой музыки и хороших стихов (в истории советской песни изредка случалось и это - достаточно вспомнить печально знаменитые песни А.Пугачевой на стихи О.Э.Мандельштама и В.Шекспира или жуткую песню неизвестного мне композитора (кажется, В.Матецкого) на прекрасное стихотворение А.А.Тарковского "Вот и лето прошло..."). Впрочем, эту закономерность можно проследить не только на таком специфическом явлении, как советская песня, - многие песни "Битлз" или той же Пиаф также, мягко выражаясь, не отличаются особой изысканностью текстов - и казалось бы, все это должно навести на мысль о преобладании в песне музыкального начала. В пользу этого же вывода говорит и такой факт, что в природе существует немало вполне достойных песен с хорошей музыкой и, скажем, с не очень хорошим текстом, но я что-то не припомню ни одной сколько-нибудь приличной песни, где это соотношение было бы обратным.
Но, с другой стороны, как тогда объяснить, что почти все выдающиеся исполнители песен не только не обладали выдающимися вокальными данными, но и, как правило, даже интонировали порой не слишком чисто? Зато практически у каждого из них была отличная дикция и, главное, чрезвычайно четкая, иногда даже несколько утрированная артикуляция, что, наряду с яркой тембровой окраской голоса, мастерским владением искусством речитатива и отточенной фразировкой, и создавало тот эффект, о котором в свое время писал еще Л.Н.Толстой:
"Дядюшка пел... с тем полным и наивным убеждением. что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает. а что напев - так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев... и... был необыкновенно хорош". Нет, конечно, когда ко всему этому добавляются еще хороший голос и чистый вокал (как, например, у Шаляпина, Руслановой, Байез или Белафонте), то делу это не вредит. Но, тем не менее, надо признать, что для исполнителя песен наличие или отсутствие собственно вокальных данных не является основополагающим фактором. Поэтому я никак не могу согласиться со знаменитым утверждением Энрико Карузо: "Для певца необходимы три вещи: 1) голос, 2) голос и 3) голос". Впрочем, он, очевидно, имел в виду в основном оперных певцов.
..Но я, кажется, слишком увлекся песенной тематикой. Честно говоря, я и сам не предполагал, что это лирическое отступление так затянется, хотя, по всей видимости, этого следовало ожидать, и я сейчас попробую объяснить, почему. Дело в том, что я сам одно время не без успеха подвизался на поприще сочинения и исполнения песен, и в процессе работы над данным произведением я постоянно испытывал мучительное желание как-нибудь их сюда втиснуть. Однажды, как читатель, без сомнения, помнит, я даже привел полный текст одной из них. Но, к моему глубокому сожалению, полноценно включить неизвестную читателю песню в литературное произведение - задача абсолютно невыполнимая. Так что все эти пространные и достаточно беспорядочные рассуждения о песнях можно рассматривать как своего рода сублимацию. Хотя, конечно, как писал О'Генри, "песок неважная замена овсу".
Мы, помнится, когда-то давно остановились на том, что я хотел пуститься в какие-то невразумительные рассуждения по поводу пятистопного ямба. Но, честно говоря, после всей этой истории с песнями у меня пропала охота снова окунаться в стиховедческие премудрости. Так что разговора о пятистопном ямбе, скорей всего, не получится. И пусть это послужит лишним подтверждением моему давнему литературному открытию, что если на сцене в первом акте появляется ружье, то в пятом оно совсем не обязательно должно стрелять. Здесь Антон Павлович, на мой взгляд, немного хватил через край. Для чего, спрашивается, этому несчастному ружью обязательно стрелять? Пускай висит себе на здоровье до самого конца представления. А если какой-нибудь, я прошу прощения за грубое слово, дурак и спросит, зачем оно здесь все время висело, так на то он и дурак (или, если выразиться изящней, "asinus ad lyram"), чтобы не удостаивать его ответом.
Но нет! Никто и никогда не сможет поставить мне в упрек снобистское презрение к читателю! Как бы я иной раз свысока его ни третировал, я всегда старался, насколько это в моих силах, подсластить пилюлю. И если порой под маской прямодушия я скрываю лукавое двоемыслие и заставляю читателя теряться в догадках, что я говорю в шутку, а что - всерьез, то это только для того, чтобы в один прекрасный момент (как сейчас говорят: "момент истины") читатель понял, что всерьез я не говорю ничего. И не говорю именно потому, что очень хотел бы считать читателя не глупее себя - а что, кроме скуки и взаимного раздражения, может принести "серьезный" разговор с равным? Недаром в так называемом "высшем свете", где каждый чувствовал себя равным любому и это чувство равенства являлось, можно сказать, альфой и омегой дворянского самосознания, "серьезные" разговоры считались признаком дурного тона. С равным приятно посмеяться общим шуткам, немного позлословить об окружающих, попытаться поддеть его самого на какую-нибудь нехитрую удочку - словом, поболтать о том о сем. Чем, собственно, мы в настоящее время и занимаемся. И я надеюсь, после этих откровенных признаний читатель уже не будет относиться чересчур серьезно к моей псевдоглубокомысленной болтовне и, в первую очередь, ко всему только что сказанному.
Вообще я чувствую, что за все этими откровениями и чистосердечными признаниями я как-то потерял нить повествования. То есть я не хочу сказать, что она у меня когда-то была, но, по крайней мере, до сих пор все шло довольно гладко, одно цеплялось за другое и создавалась видимость какого-то движения (как говорил кто-то из великих: "Движение - все, конечная цель - ничто") и развития мысли. А сейчас, признаться, я даже не знаю, как и в каком направлении мне это движение продолжать. Может быть, все-таки имеет смысл вернуться к разговору о пятистопном ямбе?
Конечно, у меня в голове крутится пара-тройка захудалых мыслишек на эту тему, но это уже получается как-то несолидно: сначала пообещать, потом отказаться, потом снова... Да и, кроме того, если вдуматься, вся эта проблема высосана из пальца. Разве я писал одним только пятистопным ямбом? Не спорю, в этом классическом размере мне действительно удалось создать несколько запоминающихся произведений, и, чтобы читатель не подумал, будто бы у меня появились какие-то комплексы, я готов здесь же привести еще одно стихотворение, написанное пресловутым пятистопным ямбом и посвященное моей хорошей знакомой, некой П.Б. (в девичестве - К.):
Когда весь мир еще вкушает сон
иль сладкую рассветную дремоту,
поэт не спит - встает с постели он
и, как безумный, прется на работу.
Стряхнув с своих безвременных седин
остатки сна и утреннего сплина,
судьбе навстречу он идет один...
Что ждет его, скажи, моя Полина?
Если кто-то из читателей еще не окончательно расстался с иллюзиями и упорно продолжает надеяться (О fallacem hominum spem!), что я начну сейчас рассказывать об истории своих взаимоотношений с вышеназванной Полиной Б., то его в очередной раз ждет жестокое разочарование. Тем более что она в некотором роде представляла собой вполне уникальное явление нашей художественной жизни и с неподражаемым артистизмом исполняла песни идишистского фольклорного репертуара, а также блистала на московских пуримшпилях с песенками моего сочинения, вроде:
Уедем мы отсюда,
уедем навсегда!
Нам хочется до зуда
поехать кой-куда.
Там чистая посуда,
кошерная еда,
там нас прокормит ссуда
до Страшного суда!
Тра-та-та, тра-та-та!
Там такая красота!
Будем там лет до ста
Жить без Холокоста... - и так далее.
(Я пишу об этом в прошедшем времени, потому что не далее как несколько лет назад я имел удовольствие проводить ее из аэропорта Шереметьево-2 не спрашивайте куда.) Нет, я и на этот раз найду в себе силы удержаться от ностальгических воспоминаний И пусть читатель думает что хочет. Пусть он посмеет (если его представления о морали допускают подобные эскапады) хотя бы в мыслях бросить тень на порядочную замужнюю женщину и на безупречного семьянина, каковым, по общему мнению (я, впрочем, ни в коей мере не склонен настаивать на его абсолютной справедливости), является автор этих строк. Пусть. А мы тем временем вернемся к разговору о стихотворных размерах.
Так вот, разумеется было бы чудовищным искажением действительного положения вещей утверждать, будто бы все мое (не слишком, надо сказать, обширное) поэтическое творчество исчерпывается утомительными упражнениями в пятистопном ямбе, и я, без сомнения, хоть сейчас мог бы привести достаточное количество примеров. чтобы не оставить камня на камне от такого безосновательного утверждения. Но, согласитесь, это будет выглядеть каким-то ребячеством, дескать, не веришь - так на, подавись! Да и, кроме того, я вообще глубоко убежден, что серьезно и доброжелательно настроенный читатель должен верить автору на слово и уж во всяком случае не требовать от него никаких доказательств. А если не верит, то грош цена такому автору, который не в состоянии преодолеть в читателе естественное для любого нормального человека скептическое отношение к тому, что говорит кто-то другой.
Здесь, впрочем, есть и оборотная сторона: я хочу сказать, что, к сожалению, читатель далеко не всегда бывает серьезно и доброжелательно настроен, а пытаться убедить в чем-то злобного и предвзятого невежду - занятие довольно специфическое и требующее особых навыков и пристрастий. Но эта оговорка, при всей ее безусловной справедливости, оставляет недобросовестному автору возможность каждый раз сваливать ответственность за свой некондиционный товар на якобы предвзятого или невежественного читателя. Что, между прочим, мы видим буквально на каждом шагу и чего, я полагаю, в той или иной форме не избежал ни один из литераторов, независимо от одаренности и степени добросовестности. Словом, это крайне запутанный вопрос, если, конечно, начать в нем подробно разбираться. А если не разбираться, то все в общем-то довольно просто, и каждый пишущий в большинстве случаев прекрасно понимает меру своей и читательской ответственности за успех или неуспех своего произведения. Хотя, конечно, это дело очень индивидуальное и зачастую не поддается никаким разумным объяснениям.
В те славные годы, когда я еще не занимался издательской и книготорговой деятельностью и поэтому имел иногда час-другой свободного времени, чтобы пораскинуть мозгами о том и о сем, я часто размышлял о различных аспектах природы художественного творчества. Разумеется, я не пытался найти какой-то универсальный алгоритм этого захватывающего процесса (на мой взгляд, это непосильная задача для бедного человеческого ума), но попробовать выявить хотя бы для себя некоторые его механизмы было уже чрезвычайно соблазнительно. К сожалению, по самому складу своей ментальности я менее всего исследователь и обладаю практически нулевым аналитическим потенциалом, и потому все мои изыскания (если их можно так назвать) всегда сильно отдают маниловщиной. В лучшем случае я еще способен худо-бедно сформулировать проблему, но дальше этого у меня дело, как правило, не идет - я сейчас же погружаюсь в какие-то смутные мечтания, химерические предположения и сомнительные гипотезы, а чтобы всерьез замяться систематическим и всесторонним изучением вопроса, так этого нет. Максимум, на что меня еще иногда хватает, это на то, чтобы провести какой-нибудь взбалмошный, единичный и совершенно некорректный эксперимент, на основании которого, конечно же, ни в коем случае нельзя делать никаких сколько-нибудь далеко идущих выводов. Вполне отдавая себе в этом отчет, я, естественно, никогда таких выводов делать и не пытался, но в той или иной форме результаты этих экспериментов не могли не повлиять на мои представления об их предмете, а порой даже находили выход в моих литературных произведениях.
Так вот, в контексте разговора о природе художественного творчества я хотел бы сейчас познакомить читателя с результатами одного такого эксперимента (причем от описания его самого я по эстетическим соображениям, пожалуй, воздержусь), преломленными, так сказать, в призме моего поэтического мировосприятия. Эта вещь написана в форме чрезвычайно мной любимых "Военных афоризмов" К.Пруткова и посвящена, как это ни дико покажется читателю по ее прочтении, все той же Полине Б. Вообще надо сказать, что я в своем творчестве неоднократно обращался к, на мой взгляд, совершенно незаслуженно забытому жанру "Военных афоризмов". Достаточно вспомнить такой прелестный экспромт:
Недавно передали по радио
нечто, похожее на плохую пародию.
Диктор сказал, что нашего дорогого товарища Пельше
не существует больше.
Однако вернемся к результатам моего эксперимента:
БИРЮЛЕВСКИЕ АФОРИЗМЫ
1.
Едва ли возможно творческое горение
в том, у кого нарушен процесс пищеварения.
2.
При функциональных расстройствах кишечника
не помогут и воды кастальского источника.
3.
Пока поэта терзает понос,
он не в силах покорить Парнас.
4.
Если большую часть времени проводишь в сортире,
нелегко обратить свои устремления к литературе.
5.
Когда делишь досуг меж постелью и унитазом,
лучшие творческие замыслы могут обернуться конфузом.
6.
Самая мысль о поэзии становится постыла
при наличии такого жидкого стула.
7.
Вообще дар стихосложения крайне редок
в том, у кого расстроен желудок.
8.
В этом состоянии все лирические эмоции
Требуют существенной коррекции.
9.
При такой интенсивной перистальтике
искажаются все представления об эстетике.
10.
Сведя рацион к таблеткам энтеросептола,
забываешь о проблемах версификации и стиля.
11.
Когда становишься ко всему, кроме своих частых позывов,
бесчувственным, как полено, -
не приходится рассчитывать на благосклонность Аполлона.
Собственно, после таких афористических высказываний о природе художественного творчества я испытываю сильное искушение, как выражаются некоторые нынешние прозаики, "похилять на коду", - иначе говоря, повести дело к концу. И мне бы очень хотелось, чтобы у читателя сложилось впечатление, что я заканчиваю свое повествование, так толком его и не начав То есть я, конечно, не хочу, чтобы читатель почувствовал себя обманутым подобно зрителям "Королевского жирафа" из "Приключений Гекльберри Финна", но некоторая неудовлетворенность и даже разочарование вполне бы меня устроили. Мне кажется, что, испытав однажды эти чувства, читатель проявит повышенный интерес к моим новым произведениям, в которых он будет надеяться найти то, что я, по его мнению, недосказал в этом. Да и вообще, идеальной с художественной точки зрения мне видится такая ситуация, когда все произведение от первой до последней строчки является лишь развернутым предисловием к самому себе. И, кажется, у меня на этот раз получилось что-то похожее.