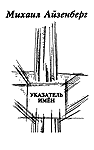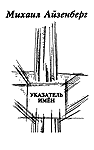* * *
Что я тебе скажу
как частное лицо частному лицу –
открываешь глаза и видишь свои ладони.
Что за сон такой?
Подскажи; помоги жильцу
не поместиться в доме.
Вот он сейчас повернется к себе лицом –
где-то ему под сорок.
Что это было?
Качка, дорожный сон
в душной кабине и на плохих рессорах.
Кто это был тот, что еще вчера
в легких ходил и в добрых?
Так неопрятен вид своего добра,
что второпях бежишь от себе подобных.
Воля моя, где, – на семи ветрах
свист и высок и сладок.
Вырвется вдруг: я не червь, я не прах,
я не меченый атом в подпольных складах.
Кто разменял мне волю? Своих кругов
не узнает, ступая.
Мысль отлетает точно на пять шагов
и тычется как слепая.
* * *
Среди тех. Среди тех, кто с нуля
начинает – и сразу бросает.
Вот ничейная, видит, земля:
солнце выйдет, и дождик осалит.
Кто влюблен как попало.
У кого выходной,
если вдруг перепало
по одной. И еще по одной.
И – ни много, ни мало –
не досталось всего.
А досталось всего ничего –
все, что было, как с неба упало.
Как легко! Не земля подхватила,
а пустой самокат.
Мимо озера, дачного тира
и потом наугад –
Пыль летела, и солнце светило
И откуда приходит? Куда исчезает потом?
Дело в том, что светилась, летела
Правда, в том то и дело,
А вовсе не в том.
* * *
Вся земля уже с наклейками.
Смотрит тысячью голов,
как выходит за уклейками
одинокий рыболов.
Вслед за ним летит как тетерев
беспокойный разговор.
Смотрят дети и свидетели
сквозь прореженный забор.
Пес шатается без привязи.
А попробуй перелезть –
из земли солдатик вылезет
и за всех ответит: есть!
То некрашеный, то синенький.
То забор, то василек.
В маскировочном осиннике
снайпер, видимо, залег.
Долог путь. Земля с наколками
да с сосновыми иголками,
и скучней половика –
если б не было стрелка.
* * *
Пока чужому, незнакомому
еще не кончился черед,
куда бы мне, очертя голову,
как голубю в потоки вод?
Поочередно – то смятение,
а то неодолимый зуд –
любви неслышное радение –
грызут меня или несут.
Куда бы мне? Вода проточная,
любви разносчица заочная,
я от нее не увильну
Пока на той горит пощечина,
другую щеку поверну.
* * *
Чем жива душа?
Не ее ли кормил с ножа
весь прошедший год за столом накрытым?
Отхлебнула беды чужой.
И где конь молодой с копытом,
там и я – со своей душой.
У-у, ла-худра!
Только первый заслышит звон – и туда рванет.
Хоть на край Москвы, хоть под утро.
А потом говорит: ну, вот.
А еще говорит:
"Ты хотя бы не ставь на вид.
Или ты, господин,
не хозяин своих седин?
Или ты, господин,
в тайной пропасти не един?
Разве ты не един в основе
с каждой ниточкой естества,
что дрожит в ненасытном зное –
только тем и жива".
Тело, костная тина.
Но сирена кричит в мозгу,
собирая все воедино
по усилию, по волоску.
Открывается неизбежное,
второпях заклиная:
– Косточка нежная теменная!
– Темь кромешная!
– Баба снежная!
– Жаба грудная!
* * *
Этот выпавший койко-день
с головой в одеяле,
с расходившимися тенями:
зайцы-пальцы и волки-кукиши –
тень замахивается на тень.
Там своя война начинается.
Много зайцев убиты сразу,
и волкам не хватает рук.
Где ж тебя спрятать, любимый друг?
Как тебя уберечь от сглазу?
На скрещении сквозняков
нет, не рай. Но отдых, как сон недолгий.
Переждать, пригреться на несколько пар деньков.
Сколько духов уместится на острие иголки?
Рай-раек. Или заячий рай-беляк.
Братцы кролики и милые их сестрицы.
Пожалейте нас кто-нибудь в снежных пустых полях.
* * *
Сор смести, заплатить за свет.
Три письма послать в три страны.
Все дела переделать, которых нет,
которые и нужны
лишь на время, когда в тишине повис
звук, родной одним комарам да мухам –
самый тонкий, неразличимый свист,
не улавливаемый ухом.
Замолчать. Извести. Изжить. На худой конец
завалить тряпьем.
Обмануть неслаженный писк сердец –
сокрушенье каждого о своем.
* * *
Прошу: позабудем, что мы корешки, –
соседи по общей перине.
Когда-то на кухне кастрюли, горшки
такие беседы варили.
Руками, боками веду разговоры,
касанием – кто там? кому там?
Надежда на встречу. Надежды как норы
ветвятся во времени лютом.
Надежда на случай, на пробу пера,
на выбор летучий, на проблеск один.
А ты, господин?
а ты, господин?
Куда тебе ближе, зачем тебе лучше?
Но – выйти из кровных, из плотных, из тесных.
Остаться улыбкой в гостях и в болезнях.
Улыбка не тает – летает – летим?
* * *
Посреди высотных башен
вид гуляющего страшен.
Что он ищет день-деньской
в этой каше, в этой чаше,
в этой чаще городской?
Он идет, а в теле свищет,
разбегаясь по низам,
настоящее винище,
злой особенный бальзам.
Тело засухой недужит
Лезет ижица в глаза
Сон закладывает уши –
тише, глуше, ни аза.
И атласный сходит зной.
Снится мне, что я связной
Я связной, а жизнь бессвязна.
И, с душою взапуски,
та отстала, та увязла,
кто куда, а все близки.
* * *
Живу, живу, а все не впрок.
Как будто время начертило
в себе обратный кувырок.
И только пыльная щетина
покрыла дни.
Проводим год,
и время станет бородато,
как надоевший анекдот,
застрявший в памяти когда-то.
И два кочевника, два брата
ползут навстречу – кто скорей:
упрямый чукча и еврей.
Тот Ахиллес, а тот Улисс.
Один Илья, другой Микула.
Еврей и чукча обнялись.
Над ними молния сверкнула.
* * *
Нас пугают, а нам не страшно
Нас ругают, а нам не важно
Колют, а нам не больно
Гонят, а нам привольно
Что это мы за люди?
Что ж мы за перепелки?
Нам бы кричать и падать
Нам бы зубами щелкать
И в пустоте ползучей
рыться на всякий случай
* * *
Этот снимок смазанный знаком:
на скамейке, с будущим в обнимку,
на скамейке поздно вечерком,
примеряя шапку-невидимку.
Незаметно, боком проберусь
по земле, где вытоптаны виды.
Вот страна, снимающая груз
будущей истории. Мы квиты.
Вся земля пустилась наутек.
Как теперь опомниться, собраться.
Помело поганое метет,
и лишай стрижет под новобранца.
Беженцы нагнали беглеца.
Все смешалось в панике обозной.
И колышет мягкие сердца
общий страх: бежать, пока не поздно.
* * *
Свои лучшие десять лет
просидев на чужих чемоданах,
я успел написать ответ
без придаточных, не при дамах.
Десять лет пролежав на одной кровати,
провожая взглядом чужие спины,
я успел приготовить такое "хватит",
что наверное хватит и половины.
Говорю вам: мне ничего не надо.
Позвоночник вынете – не обрушусь.
Распадаясь скажу: провались! исчезни!
Только этот людьми заселенный ужас
не подхватит меня как отец солдата,
не заставит сердцем прижаться к бездне
* * *
Под одной виноградной веткой
мы сидели, а вышли врозь.
Винной ягодой, самой едкой,
это все оторви да брось.
Сквозь прокуренный воздух зыбкий,
сквозь аквариум темный мой
красноперые те улыбки
по счастливой прошли кривой.
Полыхнула сильнее блица
в перегреве второго дня
электрическая зарница –
вспышка памяти и огня.
Оглушительное забвенье
замыкается над столом.
Под какое благословенье
чуть не сотая – соколом!
Сокол с напуском, с ворочанием, –
возвращается дотемна.
Хорошо развели отчаяньем
водку-дуру. Попробуй, на!
* * *
Это счет вавилонский наш:
чет на вычет и баш на баш –
башню строили. И недаром
к оползанию ледника
всех давно развели по парам
как попало, наверняка.
Только шум да шурум-бурум
бытовая отспорит служба.
Лучше выберу подобру,
что ни в чем выбирать не нужно.
Я в родимом дрожал пятне.
Не платил, задолжал родне.
И ничем, ни добром, ни мастью,
даже холодом не оброс.
Заходи, холодильный мастер,
как мотор заводи мороз.
Пусть вдвойне дорожает холод,
и Москву облетает слух,
я не жду ничего плохого
от медвежьих твоих услуг.
* * *
Кто из тех, кто вошел в поток,
вытянет коготок?
Ни один. Ни один не выйдет.
Ни один не вырвется невредим.
Или выйдет за всех один?
Вставшая тьмой в очах,
кто же она? –
если гибнет в тысячах,
если платит тысячей за одного сполна –
Жизнь? Повтори на слух.
Звук-то какой.
Слово само с дырой.
Или трясина сила ее порук?
Ксива – ее пароль?
Не забывай: ксива.
Не забывай, что она едва
едва выносима,
если не мертва.
И скажи спасибо
И скажи спасибо
* * *
Только если слезами полито,
не смывается. Так-то брат.
Да кому это я? кто это
съеден поедом так, что и сам не рад?
Если где дыра, закричит в дыру.
Он мышиные заклинает норы.
Дай-ка я, смотри, рукавом сотру
уговор недобрый и опыт скорый.
Затяну и сам заколдую круг
День потерян, и сон придушен
Дай мне право из первых рук
Не возьмем ничего, не отпустим и не нарушим
Так я тих, но и так я тих
Не повернусь ни силой и ни полсилой
Спаси и помилуй братцев моих
И меня и моих
спаси и помилуй
* * *
Кто в проливные дни помнит свои пределы?
Мыслями правит тело, горит в огне.
Пери-ангелы и человекодевы
как наяву стали являться мне.
Стол, составленный из столов.
Новые гости – здрасьте.
Полные пригоршни райских птиц. Метро на углу.
Но не уйдут, не выйдут из тайной власти –
всем под ребро загнали огненную иглу.
Облик меняется: девочка в первой паре
как выступает! Не поглядит. Но вот
клонится вниз, космы чадрой упали,
драные джинсы, и оголен живот.
Еще не сошел загар, а дождь поливает.
Старый гостиный двор.
Мерная дробь томит.
Дождь сгибает ее или истома валит?
Она молчит, ничего не хочет сказать
* * *
Родная кубатура, – вместилище души.
Скажи, губа не дура! А кто она, скажи?
Ах, тещина малина! Еще стакан чайку.
Судьбина-акулина, кричи ку-ка-ре-ку.
В готовой халабуде приканчивая дни,
живем почти как люди мы, люди. А они? –
Шуруют тайной кодлой и явной сволотой.
Угодный-неугодный, а входит как влитой
их выговор. Поди ж ты: из перекрытых пор
не дважды и не трижды втекает в разговор.
Не знать бы нам такого. И в памяти певца
свиное прятать слово для красного словца,
когда тебе горячий он перешлет привет
веселой кукарачей. А к ней приправы нет.
* * *
Эммой – помните? – Бовари
открывается черный список.
Брать – не брать? Говорят: бери.
С этой тяжбой я вырос, высох
Ах, злодейка! Одна мечта.
И ни радости, ни стыда.
Где умоется? на ветру.
Я увижу и не узнаю,
и в угаре не разберу,
где весна, где болезнь глазная
* * *
Хоть ненадолго, но посмотри: до поры
стало весело, пыльно и скученно.
Подметают дворы, вытряхают ковры
на развалинах города-чучела.
Осповатый, ощеренный, в теплом дыму,
безымянный как прежде.
Поклонитесь ему.
Поклянитесь ему.
Только землю не ешьте
* * *
Как бушлатников, темных лицом,
провожают в пехоту:
распрощался – и дело с концом.
И опять, по второму заходу,
начинается – только держись –
заиграет, спохватится
Или снова, о господи, жизнь
как жестянка покатится –
Только битый кирпич да песок,
да трава – шерсть верблюжья
Только детский дворовый каток,
а на нем полукружья
и широкая вязь
от ножей и снегурок
За углом хоронясь,
зажигаю окурок
Ты прости, что не смог
отойти от Покровки-Солянки,
что последней московской шарманке
я до смерти попал на зубок
* * *
В ту пятницу, а может, в ту субботу
(тупятница, пора тебя в работу)
Но мы не знали, говорю, не знали
Ни что хозяйка только что с поминок,
что пасынок убит в Афганистане
не знали мы. А то бы мы не стали
так разгоняться до ее прихода.
Но на дверях ни одного замка.
Но пунш без пламени – дешевый, ядовитый
напополам с вином. И видевшая виды
ничья квартира, крепость паука.
Она внесла взывание и свист.
Но паутиной я в углу провис
и от любого сквозняка качаюсь.
А серая звезда в моем мозгу
уже давно обшарила, печалясь,
своим лучом безвидную тоску
и уголки потерянного рая,
где по двое и по трое сидят,
гитара плачется и нежную траву
тихонько щиплет, слов не выбирая.
И мы остались в темной полосе.
Меня томил скопившийся излишек
чужой беды, застроченной в канву.
Перебродил и только душу выжег
на злом дыхании, на водочной слезе.
Тупятница моя, твоя работа.
Притертые, мы заперты в пенале
как, сам не знаю, – палочки для счета.
Но мы не знали, правда, мы не знали
* * *
Наше место давно известно
не по карте. А карте – место.
Карте место, считаем мы,
путешественники в качалке
от российской густой зимы
и до весны-гречанки.
Скоро лето. Дорожный зной.
День спускается затяжной
как при морской болезни
и готовится за спиной
каркать свое "а если?"
Что "а если?", ну что "а если"?
Сам послушай, какие песни
черно-белая тень любви
нам еще напоет: ти-ви.
И размаянный, без вины –
подхватила весна, испарина –
задыхаюсь от новизны.
Было? не было? с тенью спарила?
Или стекла раскалены?
* * *
А что этот друг или родственник мой,
умученный язвой, но в общем прямой? –
томится, умученный язвой,
в пучине своей неотвязной.
А что эта девушка, полусестра,
туга на язык, а на ухо востра? –
и в ней, торопливой на ушко,
тяжелая спит погремушка.
А Витя, а Витя, а милый Витек? –
он что-то увидел – айда наутек!
Но тут же за волосы схвачен.
Мы рядом сидим. И не плачем.
* * *
Перелом, перелом.
И не где-то в былом –
жизнь ломается в самом прямом
ежедневном звучании, чаянии.
Кто заметит и сможет понять
это – прущее напролом
перепахивать невосполнимую гладь,
землю резать тупым углом.
Посчитаем, кому грозит
стать свидетелем – и каким! –
в одна тысяча черный год
мутной вспенившейся реки,
на пороги несущей плот.
* * *
И тяжкий храп, и лошадиный дых,
и не поймешь, куда оно скатилось
на всех парах, на всех своих гнедых.
Ведь было время, а – скажи на милость!
Я задержался в образе таком:
дышать тайком и ждать, когда тупая
тоска заставит щелкать языком,
на медленном огне перекипая.
Живое тело ходит ходуном
на полосе между недоброй ссорой
и миром, постановленным вверх дном.
В который раз? Не разбери в который.
* * *
Не отстает, прячется за спиной,
только всегда при мне.
Ходит за мной тенью на ясном дне –
Разве тоска?
тише воды
ниже травы
глуше песка
Разве это тоска?
Только вздохнули и ожили.
Только согрелись.
Что-то заметили издалека.
Прелестью жизнь обернулась. А что, ее прелесть
тоже горька?
* * *
Налицо опрощение.
И не только лицо –
все становится проще.
Кропотливое письмецо
отразит это время почти без помарок:
"Духота. Красота. А наро-одищу!
И жилье не подарок.
Что же вы не приехали к нам?
Мы без вас торопливо скучали.
Мы без вас как-то раз
на гитаре бренчали.
Даже брызнули слезы из глаз
как-то раз."
И не сразу заметишь,
что безумен такой пересказ.
Что в окошках тоскующих фраз
ты не сам вместо солнышка светишь,
а какой-то певучий
потрох сучий
все канючит себе на уме
бесконечно живучее
бессаме-бессаме-
бессамемучее
* * *
Каждому, видишь, мера своя дана:
мера добра, мера огня и чада,
мера времени. Разве моя вина,
что мера огня останется непочата.
Если бы воду не лили двойным ковшом,
если бы время не мерили малой мерой,
кто бы узнал, кто бы себя нашел
здесь – между войлоком и фанерой,
там – в помрачении и в делах.
Все-таки это дикость:
столько вариться, в трех прокипеть котлах,
и – никуда. И ничего. Гляди-кось!
* * *
Как чернилами брызнет
в ветровое стекло.
Это впадина жизни –
только бы пронесло.
Черным брызнуло соком,
понесло кислотой
от распахнутых окон,
подворотни пустой.
Из шумов безголосых
неспокойная трель.
А сарай на колесах
понесется быстрей.
И за музыкой близкой
слышен гул вдалеке
с электрической искрой
на трамвайной дуге.
* * *
"Астор", "Джебел", "БТ" и "Пчелка",
и оранжевенький "Дукат".
Долго плавал дымок. Так долго,
что не выветрится никак.
В паре с юношеской тоскою
сигаретный дрожит огонь.
Дай хоть чем-нибудь успокою –
под цыганочку, под гармонь,
под гитару из общежитий,
полупьяный нестройный вой.
Память. Уличный потрошитель,
намагниченный часовой.
И не знаю, зачем ей нужно
возвращаться опять сюда –
плешка, девушка, двушка, дружба,
газированная вода.
* * *
Тишина. Из табачных туч
светит комнатная луна.
Телевизорный синий луч
чертит рожицы, письмена.
Хор поет хоровую песню.
Он поет хорошо,
но слегка отдает болезнью.
Вечер, и снег в окне.
Вот и зима вчерне.
Только бы мне
в бессоннице не поплыть
по лучевой волне.
Только, только бы не
ссыпаться в низовой этаж,
где под видеооблучением
переползает блюдце
весь циферблат стола,
где за столоверчением
не дрожат, не смеются.
Я ведь не знаю, чем
кормят зеленых псов
на прогулке под фонарем.
И снег в круговой вираж
поднимается, невесом.
* * *
В лаковом еловом блеске,
синевой и парусиной пеленая,
на засвеченном подлеске
пятна плавают, и зыбь идет речная
В обморочном стрекоте, в воздухе речном
тонут купы
в синем дыме еле живы.
А далекие вершины
шелком шиты, серебром
* * *
Гора-призрак.
Гора-облако.
Здесь бы нам
глаза коршуна,
птичьи зрачки, глаза сокола
(взгляд прям, слеза около)
Вот летит орлан, белоглав.
Крылья загнутые крючки.
А по склонам ласточки
как пыль в луче.
Здесь бы на обколотом сургуче,
на камне плоском
год пролежать – ни с кем, ни о чем.
Синь да просыпанная известка.
Щебнем рассыпан, иссечен
хрупкий камень земли безлесой
под горой,
дымовой завесой.
ПИСЬМО ДРУГУ-ЛИТЕРАТОРУ
Все забыл. Подметный лист
больше месяца мусолю.
Кто там чей антагонист?
И не тех еще поссорю..
Ты, гонимый Гезиод
в принудительном колледже? –
не кончается завод,
туже прежнего.. Да нет же.
Так покорно и хитро
метр сходится с ответом.
И упавшее перо
в океан уносит ветром.
Так по-школьному толков,
на паях с великим мужем
просиял – и был таков.
Был такой же. Новый нужен.
Ты, прибившийся навек
к жизни праздничной и едкой?
Как безумен человек –
мысли пичкает таблеткой..
Ты живой водой кропил,
ты играл застольным перлом..
Но стихов короткий пыл
высыхал на каждом первом.
Все каникулы земли,
все подпочвенные роды
дальним гулом изошли
и – не сделали погоды.
Дух безмолвием сведен.
В крик кричи – и то не слышно.
Как, когда прямым путем
слово скорченное вышло?
Даже так: слова легки,
легче легкого. И, скажем,
все попутные грехи
раздавая персонажам,
кое-как обут, согрет,
ты живешь почти без тела.
Только смотришь, как на нет
дорогая сходит тема.
И растет во всей красе
на тебя похожий голем.
Ты доволен? Я как все.
Все довольны – я доволен.
Где-то есть наверняка
подходящая лакуна.
Незамечена пока.
Незаполнена покуда.
Там, у мира на краю,
волю тихую свою
затиранишь и обманешь.
Кто сказал "не я пою"?
Новый нужен – понимаешь?
Новый, нового новей.
Кровь другая. Череп новый.
Первый свищет соловей
в голове его садовой.
Что искали, всё отверг.
Что надумал! Голова-то!
Он такой же человек,
только смотрит диковато.
Долго-долго он глядел.
В ухо месяц залетел.
Месяц в ухе как серьга.
Топот шопоту слуга.
Ты, слуга, иди в народ.
Кто не с нами, сами в рот.
А я сяду и поеду.
Тут недолго, – до ворот.
Все не ново. Кто же нов?
Этот ложный Иванов
(а возможно Прониловер)?
Впереди полутонов
голос, пойманный на слове.
Новый друг, пляши один.
Барабанщик, барабань же!
Вместо тех, кто выходил,
только время вышло раньше.
За истаявших тогда.
Чья обида в землю вбита.
Так забытых без следа,
что фамилия забыта.
Продолжение книги