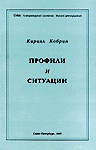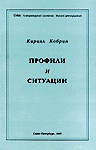Перед нами строгий мужской костюм: пиджак и брюки. Настоящую суть его составляют не глупые пуговицы и непристойные фалды, не сомнительной национальности лацканы, по которым недалекие беллетристы судят своих героев, наделяя последних лацканами "сальными", да еще "посыпанными перхотью". Не новомодные "манжеты брюк". Суть костюма (и его владельца) являют (вернее, скрывают) карманы. Грудной (внешний) накладной карман на пиджаке. Там же – внутренние: "в рамку" и "в листочку". "Подкройные" карманы в брюках. Содержимое карманов больше говорит о мужчине, чем характеристика с места работы и отзывы знакомых дам.
Российская империя, видимо, в пику бердяевским рассуждениям "о вечно бабьем в русской душе", настойчиво прикидывалась мужиком. Была, так сказать, травестушечкой. После 1922 г. даже название сменила на маскулинное свистяще-раскатистое "СССР". Посему и ходила вечно в мужском костюме: вспомним Екатерину II, ловко скачущую на коне в облегающем гвардейском мундире во главе мятежных, гвардейских же, полков, или фрачно-брючную Коллонтай в зеркальном блеске скандинавских дипломатических паркетов. Кстати, не по поводу ли бисексуальных портняжных тонкостей вздыхал Тютчев: "Аршином общим не измерить"?
Так что же накладные внешние, прорезные внутренние, подкройные брючные нашей кавалерственной отчизны? Что они? Что в них?
Внешний (грудной) накладной карман – конечно же, Санкт-Петербург. А непременно торчащий оттуда треугольничек носового платка, что? Разжиревший Адмиралтейский шпиль? Стрелка Васильевского острова? Треугольный фронтон Биржи, осеняющий оную Стрелку? Так или иначе, это он – фиговый листик европейской порядочности: нарочитый, символический, необходимый и достаточный.
Москва – там же, на груди, но внутри: "в рамку" и "листочку", ближе к сердцу. "Если я возьму Москву, – говорил Наполеон, – я поражу Россию в сердце". Но не поразил. Просто залез во внутренний карман. И не нашел там ничего – даже удостоверения личности: легендарные бородатые бояре так и не пришли полюбоваться его простуженным носом. А бумажник лежал в другом кармане. Уж не в брючном ли, "подкройном"?
Таковым, по общему разумению, являлся Нижний Новгород. Впрочем, не будем глушить себя удушливым дымом общих разумений и расхожих мнений – тем дымом, что верифицирует часто несуществующий огонь. Лучше окунемся в хрустально-холодные воды самого эстетского жанра историографии – в медиевистику, этот духовно-сухой брют, несравнимый ни с промышленной водкой нового времени, ни с унылым уксусом античности, который не спасает даже обильная мраморная крошка. Что увидим мы, занырнув с открытыми глазами?
1221 год ("Я, ты да я, ты да я, я", – пропищит невидимый переводчик с цифирного на человеческий) – год основания Нижнего Новгорода. Здесь примечательно все: и то, что основатель – князь Юрий Всеволодович – позже был канонизирован православной церковью (кажется, это сообщило некоторую интимность в отношениях Нижнего Новгорода с небесной канцелярией); и то, что погиб Юрий в битве на речке Сити (странное название, словно князь оборонял от татар не владимирскую землю, а солидные лондонские банки – так мотив "кармана" звучит в первый раз, робко, сыгранный будто английским рожком); и то, что назвали поселение "Нижним" Новгородом, иначе говоря, символически перенесли тогдашний карман – Новгород – с северо-западного края русского кафтана на восточный, вниз. К сожалению, ничего не известно об изменениях в отечественной моде в первой трети XIII в.
Однако нижегородская карманная увертюра была заглушена лязгом доспехов. Город стал форпостом влияния владимирских князей в заволжских неславянских землях. А нагрянувшее вскоре золотоордынское иго и вовсе отправило мальчика на срочную военную службу. Повзрослев, Нижний пытается сделать здесь карьеру: мы видим, как во второй половине XIV в. местные князья тягаются с московскими – за что? За столичный блеск да владимирский ярлык (пусть простит мне читатель припахивающую кваском и лучком интонацию). Очередное поражение от татар (опять-таки на берегах реки с еще одним символическим названием – Пьяна) не позволило разухабисто-торжественному "столичному" мотивчику тягаться с "карманным". Но он еще вернется.
Приближается к нам тот баснословный НН (надеюсь, аббревиатура придаст Нижнему цирковой элегантности мистера Икса), форсированнее наигрывают архангельские трубы "карманную" тему: усложняется аранжировка, структура обрастает деталями – например, Архангельским собором. Поэтому, когда основательный Минин с почти бестелесным Пожарским (обгоревшим в 1611 г. в московском пожаре; не слишком ли много говорящих названий и имен?) выгнал поляков из Кремля, было ясно: карман, да-да, карман спас Россию.
А вот время бумажников еще не подошло. В ходу были висящие на поясе кошели; таким кошелем рядом с еще пустым нижегородским карманом висел на веревочке-реке Макарьев. Макарьевская ярмарка. Но архангелы владеют в совершенстве не только искусством Диззи Гиллеспи и Майлза Дэвиса, они не чужды талантам Дубровского – и вот результат: в 1817 г. Макарьевская ярмарка сгорела. Мистически настроенный император не посмел бунтовать против воли небес и ярмарка была перенесена в Нижний. Шар попал в лузу. Бумажник упал в карман.
"Местоположение Нижнего Новгорода красивее всего виденного мною в России. Перед вами не низкие холмы, пологими скатами бегущие вдоль реки, но настоящая гора, образующая могучий мыс при слиянии Волги и Оки. Обе эти реки одинаково величественны, но в месте своего впадения в Волгу Ока ничем не уступает последней и теряет свое речное "я" только потому, что ее верховье значительно ближе. На этой-то горе выстроен Нижний Новгород, господствующий над необъятной, как море, равниной, а у подножия происходит величайшая в мире ярмарка", – так чувствительный Кюстин описывает величие НН образца 1839 г. – величие осуществленного Божьего замысла. Но, – как говорил Анаксимандр в переводе Ницше (переведенном на русский Т.Васильевой): "Откуда вещи берут свое происхождение, туда же должны они сойти по необходимости; ибо должны они платить пени и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени", – или в дословном переводе Хайдеггера (и все той же Т.Васильевой): "Из чего же происхождение (есть у вещей), туда также происходит их пропадание по необходимому; а именно, они выдают друг другу право и пени за несправедливость по порядку времени", – значит, непременно должна была завершиться этой кюстиновской кодой нижегородская карманная симфония, а после рассыпаться на отдельные сюиты, арии, песенки, и то, что раньше казалось единым Большим Стилем, начало кишеть сотнями малых стилей; упорствующих ждало наказание – недаром у Анаксимандра говорится об осуждении "за свою несправедливость сообразно порядку времени" (так и декабристы, предлагавшие сделать НН столицей России, были наказаны за несообразное времени воскрешение "столичного" мотива). Тот же Кюстин добавляет: "Для того, чтобы создать нижегородскую ярмарку, понадобилось стечение целого ряда исключительных обстоятельств, которых нет и не может быть в европейских государствах: огромность расстояний, разделяющих наполовину варварские народы, испытывающие уже, однако, непреодолимую тягу к роскоши1, и климатические условия, изолирующие отдельные местности в течение многих месяцев в году, отсутствие удобных и скорых средств сообщения и т.д. и т.п. Но, думается мне, можно предвидеть, что не в очень далеком будущем прогресс материальной культуры в России сильно уменьшит значение ярмарки в Нижнем Новгороде. Теперь же, повторяю, это величайшая ярмарка на земном шаре".
Как в воду (потерявшей свое речное "я" Оки?) глядел Кюстин. Бумажник разбух и стал не по карману. В кармане (к концу XIX в.) осталась уже какая-то ерунда: мелочь, крошки хлебные и табачные, мятые носовые платки, моток бечевки, перочинный ножик и Бог знает что еще. Город застраивался штучными (как папиросы на лотке) мещанскими домишками; архангельские трубы, тубы, тромбоны, корнет-и-пистоны смолкли; атмосфера источала ароматы щей и приватных удовольствий. Недаром здесь в гимназии учился великий крохобор русской литературы, нумизмат, любитель самолично набивать папиросы – Василий Васильевич Розанов. Кажется, и достопримечательностей в городе на рубеже веков было всего две: сортир дворянского института, запечатленный почти гомеровским перечислением Мариенгофа2, и музыкальный деятель Э.К.Метнер, что-то цензуривший в нашем кремле3. Все прочее было, как у прочих – в Пензе, Смоленске, Ростове, Калуге и несть им числа: гимназии; банки, сляпанные на фасон дурного модерна; рабочие слободы; губернаторы; краеведы; городовые; эс-эры и эс-деки местного значения. Был, правда, еще один человек – эдакий Мартин Иден с усами Фридриха Ницше: Максим Горький. Именно он сквозь энтомологический хохот Шаляпина, сквозь гам собственного политического птичника (соколы, чайки, гагары, пингвины, буревестники – не тоска ли это Леши Пешкова по несостоявшейся орнитологической карьере?), сквозь шорох, шепот и шелест метафизических ужей, наконец, сквозь потрескивание, полязгивание, покряхтывание, попукивание, поскрипывание нижегородской обывательской жизни уловил слабые, бессмысленные (пока) звуки настройки небесного оркестра перед исполнением новой "Симфонии Большого Стиля Нижнего Новгорода". И негромкий стук дирижерской палочки по пюпитру...
История наградила автора "Врагов" за тонкий слух – НН стал Г, а новая нижегородская симфония начала звучать в духе известной темы "Время, вперед!". И если НН назвали Г, то могли бы (столь же справедливо) назвать Ф. То есть – Форд. Горький был идеологом Большого Советского Стиля. Символом Большого Советского Стиля в 30-е гг. стал ГАЗ (Горьковский автомобильный завод; чуть позже к ГАЗу в качестве символа присоединился (модернизированный) Сормовский завод, описанный тем же Горьким в романе "Мать"). ГАЗ построил Форд – один из отцов Большого Американского Стиля. Слышите? Вот-вот заиграет Цфасман, вот-вот запоет Утесов!
"Над городом Горьким, где ясные зорьки..." Ах, как хочется стать каким-нибудь Гоголем и воспеть в прихотливой, перенасыщенной прилагательными и восклицаниями прозе этот волшебный город ясных зорек и строго геометрических спальных районов; город, где с высокой набережной сурово смотрят на унылое низменное Заволжье бодрые шедевры сталинской архитектуры, то вскинув на караул белые колонны, то, словно Гулливер среди лилипутов, поставив на свои широкие спины маленьких трудолюбивых полунагих рабочих в кепках, со штангенциркулями и аккуратных студенток в косынках; город, где парки культуры и отдыха трудящихся сдержанно напоминают нам о Версале – широкими аллеями, офигуренными фонтанами – но о Версале, захваченном-таки парижскими коммунарами; город, где путь из "Ясной" до "Парышева" столь же опасен и многотруден, как из варяг в греки; город, в котором до начала 60-х просыпались по заводскому гудку, а усыпали вместе с Центральным радио – в 24.00... О, первомайские бахтинские карнавалы, строгие революционные литургии седьмого ноября, очереди в предновогодних гастрономах за мандаринами (трогательно описанные Бродским), веселый звон ветеранских орденов в солнечный день Победы, "Победы", "Волги", пробеги на приз газеты "Автозаводец", пустые вечерние улицы во время показа очередной серии "Штирлица" – какое это могло бы быть счастье, какая радость, если бы не очередная перестройка в небесной канцелярии, внезапная усталость дирижера, тупая фальшь фаготов, истерика скрипок, раскатистая измена рояля...
Смолкла музыка сфер. Исчезли и восьмидесятые – будто Большая Медведица языком слизнула. Вместе с восьмидесятыми исчезло все: сенаторы, сбиры, духовные конгрегации, Генеральные Штаты, вассалы, вассалы вассалов, мелькнули солдатские императоры и императорские солдаты, тело Августа вот-вот вынесут из Дома Инвалидов. И никому не нужен наш чугун; и "Волги" наши не нужны. Даже нам. Из кармана, за ненадобностью, вытащили автомобильные ключи. Осталась та же труха, мелочь, крошки, жвачка "Bim Bom".
Сейчас гранитно-бетонная физиономия Большого Советского Стиля подернулась мелкой сетью едва заметных морщинок, трещинок, из которых выбивается то щетинистая травка, то грубая поросль бурьяна. А вот центр – район малого мещанского стиля – прихорашивается, подкрашивает фасадики, накладывает макияж реклам, обживает собственное чрево – бесконечные подвалы деревянных домишек. Однако стоит переехать реку, как нежная весна сменяется грубым осенним фасадом: Большой Стиль нельзя обновить, Большой Стиль случается только один раз. Этот упадок, впрочем, более по душе внимательному наблюдателю, нежели банальная купеческая весна. Вот так же, в 1920–21 гг. приходил в упадок Петроград – город Большого Имперского Стиля; упадок, о котором с восхищением писали Мандельштам и Вагинов. Уходит смысл, здания ссутуливаются, становятся похожи на автошаржи, в воздухе разливается лихорадочный аромат вседозволенности, табу исчезают, чтобы, вернувшись, отомстить стократ. В местах, где в 1985 г. можно было угодить в милицию за одну мысль о бутылке пива, сидят на корточках, свесив жирные зады, какие-то увальни и неторопливо пьют водку. Кстати, о персонажах. Контекст этого упадка, сгущаясь, рождает своих действующих лиц – и достаточно беглого взгляда на них, чтобы вспомнить актеров паршивой драмы 70-летней давности: "Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные; не губы, а какой-то мерзкий сфинктер; почти сплошь золотые зубы; на цыплячьем теле – гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи, на тонких, как у скелета, ногах – развратнейшие пузыри – галифе и щегольские, тысячные сапоги..." Достаточно поменять в этом бунинском портрете гимнастерку на кожаную куртку (тоже, кстати, привет из гражданской), а "развратнейшие пузыри – галифе" на фекальнейшие штаны-мешки турецкого пошива, наконец, в пустующие руки парня вложить пластиковую бутыль польского лимонада, и вот сей персонаж оживает, ветерок колышет его ежиком стриженные волосы, к нему подходят другие (есть и потолще), и вся шакалья стая исчезает в каком-нибудь Автомеханическом переулке. Господи, как верно насчет золотых зубов!
Империя умерла. Увы, не египтяне хоронили – товаров "на дорожку" в гробу нет. Поэтому в карманах торжественного ее костюма (пожалуй, маршальского мундира) почти пусто. Только земля и черви. На надгробии льют бесконечные слезы Ока и Волга, почему-то сапфически обнявшись. По бокам, справа и слева, салютуя чадящими трубами несут почетный караул Автозавод и Сормово.
1 Все-таки чудный писатель этот Кюстин. Весь клюквенный сироп его "России в 1839 году" можно простить за эту "непреодолимую тягу к роскоши" и за "теряет свое речное "я"" из предыдущей цитаты.
2 "О сортире нижегородского дворянского института, после первого посещения нашего... Лео рассказывал со слезами на глазах... о фарфоровых писсуарах, напоминающих белоголовых драконов, разверзших сияющие пасти, о величавых унитазах, похожих на старинные вазы для крюшонов; о сверкающем двенадцатикранном умывальнике; о крутящемся в колесе мохнатом полотенце; о зеркалах, обрамленных гроздьями полированного винограда; о монументальном "дядьке" в двубортном мундире с красным воротником и в штанах с золотыми лампасами, охраняющем крюшоновые вазы..."
3 "И вдруг мне блеснуло: бежать, скорей, – в Нижний, к единственному человеку, который не шут, не ребенок и не "скорпион", – человек, понимающий муж, не романтик: к Эмилию Метнеру!" (Андрей Белый, "Начало века")
Продолжение книги "Профили и ситуации"
|