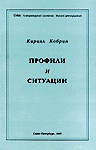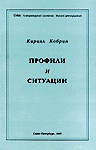В последнее время две фигуры тревожат мои сны. Графический стиль карт таро подарил им назойливую изобразительность, скульптурность, даже аллегоричность. Невзрачный господинчик со светлой бородкой указует перстом на собственные чресла. Второй – вихрастый, худой, со стремительным профилем – смотрит на свою поднятую руку. Оба персонажа порядком надоели мне, и, чтобы расправиться с ними, я пишу этот текст.
Вдохновенный маг и грязное чудовище – вот ключевые образы, унаследованные нашим веком от предыдущих; Просперо и Калибан. Современники братьев Люмьер и братьев Райт принялись смешивать их, изготовлять мутанта. Роберт Стивенсон в "Докторе Джекиле и мистере Хайде" продемонстрировал возможность совмещения порядка и хаоса в существе заурядном. Доктор Фрейд разъяснил, что все человеческие существа заурядны, т. е. состоят из порядка и хаоса. Профессорский сынок Боренька Бугаев обратился в белоснежного символиста Андрея, а последний – в пьяного идиота, пляшущего фокстрот в берлинском кафе. Тот же Бугаев придумал мутанту гениальное имя – "Аполлон Аблеухов", иными словами – "Аполлон с облыми ушами" (или "Аполлон Блюющий"?). Этакий Просперо, вытирающий зад страницами магических книг. Список мутантов нашего века известен, печален и, увы, длинен; длинен настолько, что не стоит и начинать, помянем лишь самого колоритного – бритого наголо культуролога Фуко, в черном кожане, верхом на "Харлей-Дэвидсоне".
Зато помянем и исключения, нелепых и трагических одиночек, чей удел – гордость, мужество, честь. Вот Владимир Соловьев в цилиндре сидит у лап египетского Сфинкса. Вот карикатурный империалист Черчилль, выстоявший против люфтваффе, Гитлера и Сталина в сороковом году; презрительный Борхес, поменявший Нобелевскую премию на обед с Пиночетом; толстяк-энтомолог, сочинивший "Пнина"... Все они уникальны, ибо адекватны себе и судьбе, ибо их девиз: "Делай, что должен, и будь, что будет". Персонажи моих снов, кажется, из их числа.
Один из бранчливых текстов Андре Бретона содержит следующий пассаж: "Нам нравится митра древних заклинателей, митра из чистого белого льна, на передней части которой был помещен золотой клинок, на нее не садились мухи: чтобы их отпугнуть, были проделаны омовения". Бретон намекает, что он сам – мистагог сюрреализма в белой митре. Роль Калибана при этом троцкистском Просперо отводится Жоржу Батаю: "Беда Батая в том, что он размышляет; конечно, он размышляет как тот, у кого "на носу муха", что его сближает больше с мертвецом, чем с живым человеком, но он размышляет. Он стремится посредством небольшого механизма, который еще не совсем сломался у него, передать навязчивые идеи: уже из-за этого, что бы там ни говорил Батай, тщетно его стремление противиться, как зверь, всякой системе". Сказано здорово, но, как часто бывает, не о том человеке. Батай, этот надувной монстр мелочной лавки сюрреализма, этот порно-гегельянец, здесь ни при чем. А кто при чем?
Когда я думаю о Василии Васильевиче Розанове, то представляю его себе с непременной мухой на носу. Василий Васильевич мечтает. Он не видит мухи. Он смешно подергивает носиком, отчего очочки прыгают вверх-вниз. Муха улетает. Василий Васильевич вздыхает и принимается за очередное сочинение по половому вопросу. "Половой вопрос" – навязчивая идея Василия Васильевича. Он пишет о "поле" чудовищные непристойности. Василий Васильевич вообще – "чудовище"1; он, "как зверь", противится "всякой системе". Он мечтает, он задумчив: "Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное – моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничего не входит. Я – каменный. А камень – чудовище. Ибо нужно любить и пламенеть... В задумчивости я ничего не мог делать. И, с другой стороны, все мог делать ("грех"). Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня". Положим, "грехов" особых не было – не считать же оными хрестоматийное "не-имение устоявшихся политических мнений"! Человек частный (а значит – хороший) в задумчивости о политике забывает. Особенно в задумчивости о том, о чем Розанов: "Да сохранится свежей и милой твоя пизда, которую я столько раз мысленно ласкал... А что, хочешь, ровно в 12 ч. ночи на Нов. год я вспомню ее, черненькую, влажную и душистую. Шлю на память мои волосы"2. Именно Василий Васильевич – чудовище, зверь бессистемный, однодумец – играет в моей приватной аллегории роль Калибана, алкающего Миранды. А что за Просперо смотрит на свою поднятую руку? Кто в белой митре?
В изданной недавно книге "Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель" есть две фотографии. На соседних страницах, одна против другой. Слева – взъерошенный, орлиноносый, худой Витгенштейн, застегнутый на все пуговицы своего клетчатого сюртучка. Справа – развалившийся в кресле, грузный, нахмуренный (нахМУРенный) Мур; его объятый жилетом живот раздвинул фалды мятого пиджака. Антураж: неявный кембриджский сад. Подпись: ""Я знаю, что это дерево": Витгенштейн и Мур в саду размышляют о философии". Такая вот философия, очищенная от бациллоносных монад, абсолютных идей, архетипов до грюн пункта британского дуба. Впрочем, и дерево-то ненастоящее, ведь, как известно, Витгенштейна (с подачи Мура) более всего интересовал такой вопрос: "Откуда я знаю, что это рука?" Тем и начинается его последний трактат: "Коли ты знаешь, что вот это – рука, то это и потянет за собой и все прочее". Эрик Лённрот треугольному лабиринту предпочел лабиринт, "состоящий из одной-единственной прямой линии". Витгенштейн превзошел элеатов и возвел лабиринт, состоящий из одной-единственной фразы. Выхода из этого лабиринта нет. Точнее – есть, но гипотетический: не выходить из него, т. е. не говорить ничего. ("Любое предложение может быть выведено из каких-то других предложений. Но эти последние могут оказаться не более достоверными, чем оно само".) Тогда наш лабиринт растает в воздухе. Этот траппистский канон невозможности сказать что-либо Витгенштейн доказывал большую часть жизни (после публикации "Логико-философского трактата"), доказывал яростно, многоречиво, величественно. "Когда он говорил, его лицо было удивительно подвижно, выразительно. Взгляд был пронзителен и часто неистов. Весь его вид был внушителен и даже величественен", – сообщает Норман Малкольм. Перед нами жрец, маг, Просперо, одной фразой расколдовавший самую натужную философию, самую изящную словесность, самую выспренную элоквенцию в ничто. Вдохновенный Людвиг.
Но почему же они снятся вместе, Василий Васильевич и Людвиг, Калибан и Просперо? Почему в моем сне не прыгают, не вертятся, не разговаривают, а застыли, каждый в своем уголке, на одном месте? Думаю, разгадка – в словосочетании "на одном месте". Розанова и Витгенштейна объединяет то, что они – люди, не стремящиеся куда-либо, а стоящие на одном месте, каждый на своем, каждый в своем уголке, если хотите. Проговорился об этом только Витгенштейн: "Я бы мог сказать: если бы того места, куда я стремлюсь, можно было достичь, лишь поднимаясь по некоей лестнице, то я отказался бы туда взбираться. Ведь место, куда мне действительно следует стремиться, должно быть тем местом, которое я уже занимаю... Первое движение созидательно и кладет один камень к другому, второе же всегда хватается за тот же самый". Розанов высказался (по сути – о том же) энергичнее, банальнее и темнее: "И бегут, бегут все... чудовищной толпой. Куда? Зачем?
– Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?
– Да тут не volo, а, скорее, ноги скользят, животы трясутся. И никто ни к чему не привязан. Это – скетинг-ринг, а не жизнь".
Пусть будет так. Но не глупость ли, не постмодернистский ли выверт, не маньеристский ли экивок ставить рядом, в одном тексте, Розанова, мечтающего (в разгар столпоутверждающей беседы с Флоренским) о "мамочкиных щах", и Витгенштейна, заявившего: "Мне все равно, что есть, лишь бы одно и то же"? Капустнейшего Василия Васильевича и абстрактнейшего Людвига? Пожалуй, кулинарное возражение "спариванию" моих персонажей самое сильное. Гастрономический вопрос вообще из наиболее тонких. Что предпочитал Розанов? "Крылышко гуся" глодал "без божества, без вдохновенья". Зато – "рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника... и испанские громадные луковицы, и образцы капусты, и нити белых грибов на косяке двери" – "полное православие". "Беломорскую семгу" не жаловал, т.к. ей угощают на либеральных писательских обедах, и вообще порицал писателей за обжорство "на халявку". Так был ли Василий Васильевич гурманом, любил ли вкусно покушать? Покушать любил, но гурманом не был. Обратим внимание на фразу "какие-то вроде яблочков". Знаток бы так не сказал, он бы назвал какие: моченые ли, печеные. Просто Розанову важен был еще один гастрономический компонент "полного православия", вот он и яблочки разложил, какие-то вроде. И щи его ненастоящие, и семга его литературная, гоголевского происхождения. Василию Васильевичу все равно, что есть, лишь бы есть, лишь бы жить. Вот его истинное меню: "2-3 горсти муки, 2-3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто спасти день мой". Такова гастрономическая тайна Розанова. Он ел, чтобы жить, "ибо жизнь моя есть день мой, и он именно мой день, а не Сократа или Спинозы". И разве не таков Витгенштейн? "Все равно, что есть, лишь бы одно и то же", – можно продолжить: "Ведь питаясь одним и тем же, я живу". Это библейская, ветхозаветная кулинария; именно в таком контексте можно понять и торжественные слова Давидова псалма: "Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее (землю)", и восторг Витгенштейна по поводу банальнейшего хлеба с сыром: "Было невероятно смешно слышать, как он восклицал "Hot Ziggety"3, когда моя жена ставила перед ним хлеб и сыр". Вот и получается, что гастрономические принципы Василия Васильевича и Людвига были одинаковы: их объединяло мнение, что4 "самый факт существования настолько чудесен, что никакие злоключения не могут избавить нас от несколько комической благодарности"; естественно, та же самая благодарность выражалась и по поводу одного из составляющих оного существования – хлеба насущного. Только благодарность Розанова была по-эстетски православно стилизована, а у Витгенштейна по-бойскаутски педалирована. Но 50-летний бойскаут (к "пятидесятилетнему" прибавим "еврей", "гомосексуалист", "эмигрант из Вены") разве не стилизация?
Теперь о том самом "чудесном факте существования". Люди, исполненные благодарности по поводу данного факта, конечно, мистики. Мистиком был Честертон. Мистиком был Розанов, написавший: "Но, скажем: каково же солнце, которое неизреченным тьмам народа дает хлеб, дает как "по службе", "по должности", почти "по пенсии". Дает и может дать. Дает и, значит, хочет дать? У солнца – воля и... хотение?" Пожалуй, солнце, дающее хлеб "по пенсии", будет сильнее любой Сведенборговой баронессы, любого Адама Кадмона, любой мистической розы. Мистицизм, по определению Сартра, – это интуитивное наслаждение трансцендентным. Точнее не скажешь о Розанове, наслаждавшемся рождающим солнцем. У Витгенштейна то же наслаждение, но несколько иным. Параграф 6.44 "Логико-философского трактата" гласит: "Мистично не то, как есть мир, но то, что он вообще есть". Вряд ли "лунный" Людвиг мог мистически переживать Рождение5, но вот "возможность существования чего-либо" дарила ему такие, например, мгновения: "Я в безопасности, ничто не может причинить мне вред, что бы ни случилось". Как и других мистиков, моих персонажей мало кто понимал по-настоящему, да они и не стремились к этому. Интуитивно переживая "общее" (трансцендентное), мистик в своих писаниях разорван по краям: выражается весьма по-своему (т. к. "интуитивное", т.е. "свое"), а говорит о вещах, известных каждому ("трансцендентных"), но подавляющим большинством не замечаемых, но переживаемых.
Зинаида Гиппиус пишет о Розанове: "И открытость полная – всем, то есть никому". Сам же он вздыхал: "Ах, добрый читатель, я уже давно пишу "без читателя", – просто потому, что нравится". И добавлял: "Пишу для каких-то неведомых друзей" – и хоть "ни для кому". Витгенштейн тоже особых иллюзий о своем читателе, вернее, "понимателе" не имел. Он уяснял сам для себя некоторые вещи, а что касается Другого, то: "Типичный западный ученый... все равно не постигнет духа, в котором я пишу". Вот почему, будучи великолепными собеседниками (каждый в своем роде), Розанов и Витгенштейн оказались никудышными школьными учителями: Василий Васильевич наверняка "отсутствовал" на уроках, пребывая в "задумчивости", а яростный Людвиг попросту терроризировал ничего не понимающих учеников.
"Учительские годы" Розанова известны прежде всего тем, что в это время он жил, платя по странным достоевским долгам, с Аполлинарией Сусловой и написал своего "Ганса Кюхельгартена" – злополучный трактат "О понимании". В более дотошном европейском мире "школьную эпопею" Витгенштейна все-таки раскопали6 – и что же? Бесплодные попытки, напрасная ярость, непонимание, полный провал – иной учительской карьеры для нашего философа вообразить невозможно. При этом теоретические проблемы педагогики мои персонажи обсуждали со страстью: Василий Васильевич сочинил целую книгу "Сумерки просвещения", Людвиг был одним из копьеносцев австрийской школьной реформы. Думаю, и тот и другой с отвращением вспоминали роль, которую им довелось играть, одну из самых лживых и циничных ролей, роль школьного учителя.
Написав последнюю фразу, я вдруг вспомнил, что мой скульптурный сон впервые приснился мне в Лондоне, в обшарпанной каморке припанкованного пансиончика "Maree Hotel". Накануне, за рюмкой водки я спросил Александра Моисеевича Пятигорского, что он думает о Витгенштейне. Пятигорский ответил примерно следующее: Витгенштейн – типичный венец, хитрейший, делал вид, что ничего не читал; человек индивидуальнейшего гомосексуализма; члены блумсберийского кружка7 прямо-таки молились на него, но он не принял их типа гомосексуализма. Вот тогда-то я вспомнил Розанова, написавшего, например, такое: "Действительно, я чудовищно ленив читать. Напр. Философова статью о себе (в сборнике) прочел 1-ю страницу..." Или: "Уже в университете дальше начала книг "не ходил" (Моммзен, Блюнчли)". И еще: "Из Шопенгауэра (пер. Страхова) я прочел тоже только первую половину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то первою строкою и стоит это: "Мир есть мое представление".
– Вот это хорошо, – подумал я по-обломовски. – "Представим", что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно".
Именно хитростью, афишированным невежеством впервые совпали мои персонажи. Зачем им было нужно это дуракаваляние? Как род защиты от окружающих. И Розанов и Витгенштейн не хотели соучаствовать в "коллективном проекте будущего", кто бы таковой проект ни затевал: кружок Мережковских или блумсберийский кружок. Поэтому, как заметил Пятигорский, сокровенный гомосексуалист Людвиг чурался идеологически фундированной сексуальной свободы блумсберийцев. Так же и Василий Васильевич только посмеивался над революционно-христианским эросом друзей-богоискателей, например, Мережковского: "А с "попадьею" если также, то вы вцепитесь ей в косу и станете с ней кричать о своих любимых темах, и, прокричав до 4-х утра, все-таки в конце концов совокупитесь с нею в 4 часа, если только вообще можете совокупляться (в чем я сомневаюсь)".
Дело ведь не в "гомо-" или "гетеро-", дело во внутренней сосредоточенности на самом главном, на "своем месте", своей судьбе, сосредоточенности шахматиста Лужина. Лужин машинально делал многие общепринятые вещи, "чтобы не мешали окружающие", но, когда наступление "окружающих" стало опасным, он выпрыгнул из их мира. В окно. Мои персонажи тоже "защищались": заявляли, что ничего не читали, служили, вели разговоры. Потом тоже прыгнули. "Прыжком" Розанова стал отъезд в Сергиев Посад и "Апокалипсис наших дней". "Прыжком" Витгенштейна – уход из университета. В обоих случаях смерть означила приземление.
Д.К.Хотов как-то припомнил следующий случай. Однажды он спросил своего ученика, читал ли тот Витгенштейна. Ученик переспросил: "Витгенштейна? Который писал афоризмами, как Розанов?" Над этой фразой можно посмеяться ("Бетховен похож на Чайковского, т. к. тоже сочинял симфонии". К тому же, строго говоря, Розанов не писал афоризмами). Но можно и не смеяться. Первый взгляд безымянного ученика оказался верным, может быть, потому, что "первый". Мышление и Розанова и Витгенштейна корпускулярно, они мыслят молекулами, пусть разными. Из этих молекул составляется вещество их писаний, хотя, на первый взгляд (на этот раз – неверный), способ их соединения разный. Главное, что получившийся результат и для Розанова и для Витгенштейна единственно возможен. Отстаивание своего "единственно возможного" – такова их судьба. Они чуяли ее и следовали ей. Они знали "свои камни" и хватались только за них. Василий Васильевич и Людвиг не зря скульптурно расположились в моих снах. Ведь место, куда они действительно стремились, было тем местом, которое они уже занимали. Тоже своего рода аллегория свободы.
Итак, музейная комната моего сна закрывается. Повернем выключатель. Прикроем двери. Перечитаем напоследок объяснительную табличку:
"Ведь честные и сильные натуры как раз в это время отворачиваются от сферы искусства и обращаются к иным вещам, ценность же индивидуального как-то находит свое выражение. Правда, не так, как во времена великой культуры. Культура – это как бы грандиозная организация, указывающая каждому, кто к ней принадлежит, его место, где он может работать в духе целого, а его сила может с полным правом измеряться его вкладом в смысл этого целого. Во времена же некультуры силы распыляются и мощь личности тратится на преодоление противоположно действующих сил, сопротивления трения. Она находит свое выражение не в длине пройденного пути, а, может быть, лишь в теплоте, порожденной преодолением сил трения. Но энергия остается энергией, и пусть фантасмагория, открывшаяся взору в наш век, – это отнюдь не становление великого творения культуры, где лучшие совместно работают для достижения единой великой цели, а малоимпозантное зрелище толпы, лучшие представители которой стремятся лишь к достижению своих частных целей – мы все-таки не должны забывать, что дело не в зрелище" (Людвиг Витгенштейн).
1 Разве не "чудовище": "Всем великим людям я бы откусил голову"?
2 Очень важно, что Василий Васильевич "ласкал" предмет восторга только "мысленно". Только! И непременно "в задумчивости".
3 Старинное канзасское сленговое выраженьице, типа "вкуснятина!".
4 По ехидному высказыванию Борхеса о Честертоне.
5 Норман Малкольм вспоминает: "Он добавил, что не может понять представление о Творце".
6 Уильям У. Бартли.
7 Любопытно, что наш с Пятигорским разговор происходил в Блумсбери. Однажды я был в гостях у некоего русского поэта, живущего рядом с ивановской башней. Поэт обзывал Вяч.И.Иванова "дутой фигурой" и говорил, что у того нет ни одного "настоящего" стихотворения.
Продолжение книги "Профили и ситуации"
|