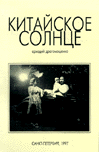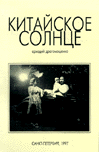Так давно. И совсем под иным расположением звезд, под другим сумраком век. Конечно же, вот-вот! - волшебно затихший во впадине зрения вовсе не постижимый городок на каком-то совсем другом юге... где остановились оттисками вечера все тех же палисадников, дремотно шумящих акаций, а ночи пропитаны эфирной смолой петуний и ночного табака, а днем - летящая над Пятничанами в одуряющее никуда пыль, в то самое никуда, где стоят руины каких-то усадеб, трижды, четырежды превращенных в гнусный прах, не помнящие ни родства, ни начал, ни распада, которые также не применимы в описании тех мест. Я хорошо помню. Я, ведь тоже, надо сказать, с Юга. Как о. Лоб, тогда еще безумный программист с железной гитарой, видевший компьютеры в ту пору, быть может, только в пьяных снах; или Карл, ушедший впоследствии в свой последний surfing к пределам Матрицы с горстью коралловых бус во рту, курящемся и по сию пору инеем жидкого азота, так же как Юрий Дышленко, ставший мертвым в минуту произнесения кем-то под низкими прокуренными сводами слов: "он умер в Quinsy, и в тот же час грамматика предопределения превратила его в Единственный Цвет Вселенной (окрашивающий все, не прикасаясь ни к чему, он извечно предстоит очертанию, черте, числу, вступающему в торг различения с иллюзиями вещества, подобно свету и вкраплениям кварца, обнаруживающему искры поверхности - именно так, многомудрые риши! - поэтому просветленный, хотя и смотрит на ши, созерцает ли, изначально ведая, что эти ши не ли..."), - как много их? Насколько долго? Зачем? Нужно ли думать? Думать нужно всегда, поскольку "всегда" неминуемо необходимо, равно как "думать", "секунда", или "парадокс лжеца" - мы строго взошли каждый в свой час на положенную дугу, подобно деревянным птицам, к спинам которых бронзовыми гвоздями была приколочена бумага с неразборчивыми наставлениями, и, шевеля скрипящим опереньем плавников, двинулись в слепом и алчном блуждании к ослепительно-белым углям, где, как говорилось в 7-м пункте наставления: нет ни зенита, ни надира, но после поедания книги всех ожидает восстание из золы, в которую, по мере разматывания веретена, превращало наши телесные механизмы шестерично-зубчатое трение о свет, о ночь и ветер солнцеворотов, о зубы ангелов, бывших не чета нашим - прокуренным и с кривым присвистом, не лишая, одновременно с тем, необходимых для дальнейшего опознания очертаний, в которых мы двигались точно так же, как в слепом и алчном блуждании, и столь медленно, что физические законы, управлявшие жизнью металлов, кислот, призраков и приливов, утрачивали правомочность, а скользящие по мыльным осям тяготений и противодействий философы заканчивали свои диспуты на двенадцать минут раньше положенного, сумрачно укладывая в сундуки трапеции и лоскутные ковры, засаленные от несчетных прикосновений босых ног - стоит ли говорить, что солнце и луна утрачивали смысл в ежемгновенных сочетаниях и разъединениях? Я помню, как прекрасная и раскаленная собственным совершенством сталь бескровно отворила то, в чем появились первые робкие изображения (пятна, линии, плоскости, затем добавились измерения времени, цвета, запаха, среди которых предлоги устанавливали власть векторов, а неделимые частицы языка раскрывали веера хитроумных предположений касательно узоров, текущих по не остывающему воску воображения) - так я стал обладателем пары глаз, данных мне в долг, и возвращать которые, знал, наступит свой час, хотя никакой боли я не почувствовал, как если бы ее во мне еще никто не создал, будто способность ощущать боль являлась чем-то наподобие последнего штриха, тончайшей детали свершения, и потому точно так же беструдно было отделение кожи от липкого, молочного воздуха, в котором жадно и жарко, подобно астматическим жабрам, журчали ручьи крови, - в тумане роились десять тысяч мерцающих голодной солью миров; каждый готов был понести имя, которое несли ему иные. Кто-то утверждал, что видел всех Будд, - мол, они мололи орехи, распевая молекулярные песни подземных пернатых. Мы же не ведали ни возгласов, ни удивления, но лишь одну скорость и движение, неукоснительно собиравшие пыль, из которой состояли мы, в тяжесть и пространство предположений. Что необходимо для продолжения? Объятия, слияние, секс, изведение целого из частностей, несколько спазм, переламывающих горло пополам? Одно тело или множество различных? Третьего сестре не дано. Поодаль неслись стада бизонов, перетекавшие подобно лаве в пустотах еще не познавшего представления мира. Рыбы находили приют в реликтовых заводях нашего существа, но не были нам известны ни удивление, ни возможность простого возгласа радости при встрече обыкновенного знакомого за поворотом улицы у булочной. Что напоминает мне эта дорога? Она напоминает ему о морозном рассвете, ведущем к вокзалу. Затем... ах да, а за спиной остается школа? Не был ли тот, давний разрыв времени осуществлением путешествия сюда, именно в пределы этой страницы, предложения, строки? И не предстоит ли мне еще раз открыть глаза, как если бы те двадцать минут были исключены из моей жизни с целью научить меня возвращению - не окажусь ли я, передавая дрожь пальцев от буквы к букве, в один прекрасный миг на утренней зимней улице в двух шагах от железнодорожной колеи в черной сутолоке ненужного дня? Уверен, что именно цепь подобных мгновений исчезновения, неповиновения ведомому и видимому составляет то, во что сливаются их следы, как дыры перфорации сливаются в односложное есть.
И все же именно в сквозящих разрывах надвигающегося вживления в следующие безмысленные слова я угадываю городок на Юге, - и кто посмеет помешать мне говорить о нем, о ком, о чем еще, когда? - и вот еще чьи-то совсем уже детские глаза, в которых возможно прочесть и уходящее за телеграфные провода, за степные скаты, неизъяснимо высокое, немилосердно пустое небо и, конечно же, все ту же арифметическую пыль, стоящую сизой мглой в углу зеркала, на самом его дне, того самого, прозелень которого могла удерживать свет после его исчезновения на период, число меры которого теперь уже невнятная тайна: там, и дальше, за углом, где из-за забора свисают ветви цветущей сливы. Ты всегда обгорала на солнце. Нежно обгорала и кожа вокруг твоего рта, вечером губы твои были совсем сухими, и ты сама говорила, что вот это всего-навсего весенняя лихорадка, всему виной большой свет. За зиму от него отвыкаешь.
Перед тем, как что-нибудь сказать, она быстро облизывала губы, - маленькая сияющая ящерица мелькнула мне тобою по песку обочины шоссе Santa Fe в Solana Beach спустя без малого полвека, - как если бы они у нее пересыхали вмиг от осознания важности и огромности того, что она намеревалась сообщить хриплым, не по-детски надломленным голосом.
Тем не менее, они продолжают говорить в ней, ее интонациями, ее телом. Они придумали ей реплики, они создали ей прошлое, сотканное из соображений социальной безопасности и чужих, выверенных воспоминаний: в доме полуживых книг, исполненном меланхолии солнца, визуальных искусств и вечного шелеста падающих листьев в заросли бугенвилии, - в холодно кипящем (как перекись водорода) безмолвии только ослепительные голуби рассыпаются мраморным стенанием в бумажных стенах, увешенных фотографиями карстовых садов Versailles и San Susi под гончарными крестами мексиканской черепицы.
Нет, не думаю. Все же недавно. Почему ты спрашиваешь меня об этом, почему? Разве это было нам неизвестно? Я ничего не говорил, я не спрашивал, я молчал, как стал, так и молчал, и бровью не шевелил, не двигался, неужели ты не заметил? Да, многие знали. А остальные? Нет, это ты только что выдумал, ты сказал это нарочно для того, чтобы я услышал твое якобы молчание, которого нет, точнее, которого не было тогда, когда я спрашивал тебя на крыше, а ты мгновение спустя неосмотрительно и бездумно поменял предоставленную тебе возможность на бесплодное созерцание горящих судов, явленных поверхности и в нее канувших- но почему ты спрашивал? Начинать необходимо с начала и с остального. Неужели искусство погибло, или же кем-то была проявлена слабость? Именно так, как оно предстает слуху и зрению, когда происходит из того, что известно было немногим. К счастью об этом было можно узнать где угодно, в ларьках, на станциях, в оперных театрах, банях и тюрьмах. О чем ты спрашивал? Смерть изменяет в итоге состояние вещей в нужную сторону. Входит в то, что было досконально известно. Увеличение строки не предусматривает укрупнения дыхания. Иными словами - абсолютно длинная строка равна среде ее представляющей, вакууму. Реальность возможна. А если быть точным - горела книга, ничто другое, ее страницы теряли цвет и память в легком летнем огне, который несет западный ветер с островов, подымаясь вслед беззвучной воде. Все благополучно сошлось и не нуждается в лишних свидетельствах. Возможно - просто возможность не прекращать то, что предусматривает свое прекращение.
Никто нам этого не скажет, мы неизвестны в ночи соскальзывающих слов, мы еще не вписаны в карты обмена между богами и неодушевленными предметами из крашеного железа и искрошенного фаянса. Тут ты прав, зрение обманом втянуто в происходящее, чтобы вести пустое знание вестью, и как ядро каторжника оно не дает ему двинуться ни на волос дальше возможного. Оставим черные сверкающие доски счета. Уроним под ноги мел и досуха вытрем стеариновые следы роенья на стеклах. Хорошо известно, что возможность есть граница известного. Например, предел вещи есть ее возможное, ее будущий передел другими, но куда тебе в этом случае хотелось бы двинуться, предполагаешь ли ты, что сможешь пересечь пределы движения или возможного? (Почему ты спрашиваешь меня об этом, почему ты настаиваешь, чтобы я отвечал? Ты хочешь, чтобы они в самом деле поверили, будто я сумасшедший. О чем недопустимо говорить прямо? В голове не укладывается, что они действительно верят, будто где-то на неведомых глубинах залегает труба с коньяком. Легче поверить в Грааль, чем в эту трубу или в другую, что по слухам прозвучит над холмами и долами в день восстания из-под капельниц Карла. Можно в трубу, в щебень и в тыкву. Куда ты смотришь, когда говоришь? Кто говорит? Я молчу. Война бессильна превзойти собственное изображение. Изобрази меня с кружкой пива. Чтобы я сидел на стуле у кирпичной стены на закате, чтобы мне не снились телефонные сны об элементарных частицах, и чтобы глаза смотрели вверх и слегка влево, тогда как тополиный пух не прекращал бы падать в великие воды канав.)
К той, едва видной в желтом стекле весеннего солнца, птице, хотя я не знаю зачем она мне на сухом ветру. Расслоение, бедность фонем. Кто знает? Никто. Потому что это никого не касается. Потому что воображение и есть единственная мера невозможного. В вечном запаздывании. Круг - образ любого образа.
А мокрые листья на выщербленных темных кирпичных дорожках тоже никого не касаются? Да, не касаются. Они касались в падении лица, а теперь парят в колодцах тления. Хорошо, будь по-твоему. Ну, а радужные водопады, которые обрушивались с кустов бересклета, стоило их качнуть только рукой? Безумие находит надежду там, где мы черпаем нескончаемый страх. С другой стороны перспектива закрыта. Ветви всегда касаются того, кто к ним ближе. Какое непомерно длинное и утомительное слово. А мерцающие в дожде стволы кленов, а это желание, чтобы другой хотел, как хочешь ты? Тихая пьеса журчит в стеклянных сосудах поплавков, прозрачная, безлюдная, размеченная стеклярусными лентами полдня. Тогда, хотелось бы знать, что вынудило ее стать подобием мембраны, дрожащей пленкой, преобразующей неосязаемые волны в вещественную дрожь желания (упрямого и старого, как гортанная галька) - незрячего и одержимого своей историей ничто. Но "ничто" появляется секунду спустя, стирая собою - "ночто", по причине чего едва не возникает строка: "слепой и не отражающей ничто ночью". Что. Мне кажется нет лучше слов для последней фразы, окончивающей повествование: "так прошла наша жизнь". Недурно. Как глупо... Глупо и странно. Есть простые вещи, которые страшно вымолвить, например: "дай мне чаю", "поцелуй меня", "какой сегодня льет дождь", "налей вина", "сколько стоит", "давай поедим", "читал ли ты книгу N?". Заметим, снег при этом безудержно тает. Иногда кажется, что зиме пришел конец. Так прошла зима.
Что значит это "что"? Теперь все находится слева, там, где чашка кофе, кожура апельсина, пепельница, фотография теплых источников Большой Канавы. В невесомости, словно сдернута петля с усталой шеи - а тело осталось парить во многосоставном пространстве оргазма и наказания, склоня голову, как если бы кипящие пружины рассуждения (валансьенские кружева, коллекционная капля крови, сползающая по груди к соску, - взор опускался в туманном неведении следом, - веер, заламывающий бормотание мелом игрушечных морей и гротов, ракушки, и рисовое письмо в порче монотонной назидательности - вещи и тени, легкие, изогнутые, как золоченые луки возмездия или недоговоренные формы натянутых до онемения умолчаний) замедлили бы скорость толкования того, что означает эта поза, ее проницаемость, а прежде всего выгоревшая бумага самой фотографии. Тончайшая черная полоса пересекает то, что не имеет формы. Мы говорили о ножах. Естественно. О чем еще?
Оно спокойно, дышит. Оно облечено могуществом среднего рода. Возможно, когда-то это было мной. Равнина, тогда. Можно сказать, это было местом, пространством, отделенным от не-меня. Но стоит отвернуться от равномерного и успокаивающего чередования обстоятельств, смутных, но отнюдь в своей артикуляции не лишенных достоинства причин всевозможных следствий, предполагающих наряду с тем беспечную и безотносительную динамику перехода во что-то иное, что по обыкновению мыслится поразительно внятно, вопреки ускользающему в последний момент значению: стоит сделать такой шаг, хотя бы на мгновение позволяя стремящемуся со всех сторон течению миновать тебя (известен ли тебе такой способ? Манера изложения? Адреса? Телефоны? Издательские данные?), как принимаешься тотчас рассуждать о том, сколь магически-завораживающе было такое движение: нечто случающееся/случившееся (находящее отзвук и продолжение в телесности, в сознании, и, более того, обретающее там подтверждение собственного не-существования в присутствии, подобно лаве определений, нескончаемо перетекающих друг в друга по натянутой струне никогда не свершающего себя исчезновения, но только тенью предчувствия, предупреждения, осуществленного в ускользании; - здесь каждый день распускаются новые листья, каждый день и каждую ночь осыпаются пожелтевшие, иссохшие - осень и весна, проницающие друг друга времена; чрезмерно наглядно; весы; опыт), являлись непреложными фактами, и даже в неуклонном стирании одного другим, волна за волной они несли тебя, одновременно наполняя, протекая, мнится, через заведомо установленную с каким-то умыслом проницаемость тела, памяти, воображения, страсти, молниеносно слагаясь в податливую последовательность мысли, праздную и ничем ничему не обязанную, ничем не обусловленную; - такова весна этого года; вероятно таковы годы, века; - и облекали, совлекая одновременно, нескончаемую разрозненность того, что именуется "тобой" в меру целесообразности, либо, если угодно - бессмысленности, и что опять же являло себя в кратчайшем ощущении медленной, невыразимо медленной вспышки, в чьем неукоснительно разветвляющемся свечении всегда начиналось блаженное расслоение простой длительности, ее развертывании в памяти.
Совершенно верно, никто не намерен произносить: будущее, прошедшее настоящее (present perfect continues). Догадка принята. Наличие таковых не поддается доказательству.
Я был не мной - но кем? завораживающей идеей знания, не требующего доказательств. Разве я хотел быть доказательством самому себе? Никто не нуждается в оправдании. Приветливость как главная черта характера. "И речи быть не может! Он пишет, потому что ему нечего сказать!" - Именно. Чтобы снова не оступиться на ледяной тропе артикуляции собственной принадлежности: пространство, история, политическое устройство, пол, возраст. На 101 Старом Шоссе, роясь в книжном развале у Джанис (обычный Thrift на обочине, набитый одеждой, источающей запах химической въедливой опрятности, подсохший хлеб в пластиковых пакетах из мексиканского ресторана через дорогу: - one bag for family, please, thank you).
Что и говорить, я попал на свое место. Рай, в который попадают случайно, бесплатно, не понимая вполне, куда попали, потому как никому в голову не приходит спросить об ID или грехах, равно как и о добродетели. Идея пустынного, опустошенного, как 5-Th Freeway после раздачи слонов, красной смородины, рая. Где горизонт под ногами, а на горизонте Ганг, и горизонт одновременно там, где ему положено быть, - в виде утешения. И никогда не поймут (будто это кому-то впрямь нужно), что такие мгновения рассеяны по всему бредящему маревом полотну дороги, по всему старому шоссе. За окном новое условие ветра. Снаружи, оледеневшая на слюде зноя фигурка; кренясь, как требование доказательства у Витгенштейна, всего в пяти минутах ходьбы от которого взмывает обрыв к океану, мусор: вымытое до желтой кости дерево, груды гниющих сетей. Груда юношества. На Старом шоссе - поется, наверное, в какой-нибудь песне, "на старом разбитом шоссе". Не может быть, чтобы никто никогда не спел нам такой песни. Я просто не верю. Так вот, тогда, значит, на старом забытом шоссе верификации. Нагнуться, подобрать выеденный солью сук. В качестве дополнения. Действия "я" обусловлены необходимостью перемещения угла зрения наблюдателя. Что необыкновенно важно для сюжета. У меня есть что сказать, например: "как тогда, на старом шоссе", и так далее. На каком берегу рос тот бамбуковый, исполненный тишиной строгой мысли, ствол? Рукав в росе поднеся к глазам. Солнце уходит к далекой фарфоровой лампе (о которой известно, что вылеплена она из красной глины и речного ила, и императоры, ею владевшие, были крылаты), по чьим стенам тени дельфинов сплетаются в нервную пряжу письма. Подобно сердцевине стебля, люди в машинах, стоящих вдоль съезда на берег, - конечно безмолвны. Губка. Но грохот.
Он мешает, я хотел бы в полнейшем безмолвии утратить равновесие, возведенное океаном значение собственности сослагательного наклонения - прилива. Этого (того) не случилось. В час убывания луны. Сужение луча. История поворачивает к себе, проходит сквозь самое себя, как бедные, узкие врата блага. Скрип прежде и затем. Завтра я найду ему имя, род, окончание. Грамматика смещения. Да, говорю я себе, откладывая в стороны книгу за книгой, надо спешить, надо перейти улицу, подняться к океану, там станет намного ясней, зачем рыться в книгах, а некоторые, откладывая, листать с прохладцей. Образы. Возможно, все дело в образах, которые только и ждут, чтобы возникнуть в голове и скользнуть к сердцу, чтобы в одно мгновение и во второе мгновение, а также и в третье спеленать его осязаемостью. Существует мнение, будто допустимо и десятое мгновение. Последнее играет наиболее важную роль в формировании опыта. Словно сквозь несколько колец стекла. Сквозь словно. Различные степени преломления. Но сумма ничтожна. Когда она встретилась с Жаном Поланом, ему было пятьдесят. Вот как?
В полуоткрытую дверь Диких видел руки, перекладывавшие книги с полки на полку, далее помещение, напоминающее часть какого-то магазина, торгующего подержанной одеждой (запах вещей после химчистки), за широким окном нескончаемо образовывался воздух, выше чертил ворон, а в разбиваемом солнцем постоянстве складывались стекловидные тела чисел и пропорций. После обильного света глаза с трудом определяли (деление - вот что остается синонимии, веер деления) то, на чем внезапно было остановлено внимание - очертания человека, стоявшего с раскрытой книгой в руках и смотревшего поверх нее. Ясен ли вам рисунок? Но сам он - вне присутствия, и предопределено ему имя из знаков, враждебных друг другу. Потому что "дни наши суть сквозняки в домах без стен". На протяжении трех глав продолжает рассказываться о похищении монеты сновидений, окованной льдом, - если ее приложить к векам блуждающего на границах яви и луны, на них тотчас выступает испарина мгновенных надписей, повествующих о будущем того, кто осмелился взять монету в руки, и смывающей, как водится, сами сны, а также рассудок спящего. С той поры ночи последнего станут бездонными колодцами, а душа и жилы, на которых она висит в зрачках, будут бесконечно пожираемы мелкими тварями, наподобие вшей, и ночь никого уже не отсудит у немоты. Кого напоминает вам человек с книгой? Душу? Близорукость? Необходимость разослать письма? Без единого знака вторжения цвета. Это мне кажется (вероятно, другим также), и, следовательно, это неукоснительно есть для меня на самом деле, хотя выражение "на самом деле" мне кажется наиболее уязвимым местом в предположении. В желании создать беспорядок слышатся отголоски не меньшей заносчивости, нежели в желании утвердить гармонию. В известной мере большая часть словесности есть уверение читающего в особого рода знании, которым обладает пишущий. Особенность такового знания заключается не в проблематичной категориальности, но в точном чередовании (в меру искушенности) спрашивания и утверждения (что относится также к риторике, где, впрочем, утверждение принимает форму подтверждения) в создании иллюзии неустойчивости любого представления. Непременным условием является устойчивая идея общности личного опыта, разделения значений. В иных областях умственной деятельности такие процедуры могут именоваться по-другому. Однако меня интересует вид письма, в котором даже вопрос не имеет смысла. В таком письме не значимы ни "отрицание", ни "утверждение", а их присутствие можно описать как служебную роль в не закрываемой ситуации замещения. Что меня привлекает в этом? Скорее всего то, о чем я "постоянно догадываюсь", но что в силу своего проявления во времени, остается нераскрытым, не явленным, не данным, а именно - постоянное ускользание того, что притворяется наличествующим, острие исчезновения (глагол настоящего времени, несовершенного времени), которое возможно представить пунктом равновесия "есть" и "нет", их идентичности. Пустейшее находит себя в пустоте, в взаимовхождении, во взаимоотражении. Ожерелье Индры. По-другому это вероятно сказать следующим образом - возможно мыслимое место/время, в котором происходит сам акт превращения: нечто уже не то, чем являлось, но еще пока и не то, чем намеревается стать. Станет ли оно иным по отношению к тому, чем оно было или даже есть, не будучи ничем? В теснейшей и постоянной вспышке разрыва времени и непереходного различения, не мыслимой, но всего-навсего предполагаемой, воображаемой - всегда лишь предчувствуемой, а потому несуществующей вне, становятся видны некоторые вещи, по отношению к которым наше не-существованние как бы обретает движение и внятность.
Первое видение сменилось устойчивым созерцанием. Причины его были Диких понятны. Мальчик, приснившийся ему за день до этого на рассвете, перед тем как приложить к его векам опаляющую неземным жаром монету (за нее ничего не купить, она, так сказать, воплощение "бесплатного" как такового), сказал, что люди "с папиросной бумаги" имеют обыкновение совершать обряд усекновения волос в новолуние, вследствие чего возникает идея тотального понимания совершенного присутствия как имени собственного. Если оставить в стороне неприятный сон, после которого у Диких еще долгое время ныла голова (выпитое накануне также сыграло роль), в остальном было вполне понятно, что "созерцание" не может иметь причин, подобно любому акту приятия чего бы то ни было, вплоть до непрекращающегося процесса несовпадения сознания с создаваемым им в сознании. Вопрос: что "располагается" в этом не поддающемся описанию локусе, принадлежал не ему, но мне. Я держал перед собой изрядно просоленный (зачитанный) New ....., но, глядя поверх страниц, повторял про себя где-то однажды услышанную малозначащую фразу: "условия человеческого существования", пытаясь вникнуть в то, что повторял, не шевеля даже безвоздушным ртом. В словесном сочетании, думалось, была скрыта разгадка. Вялость и раздражительность. Такое порой (я слышал) случается, когда разгадка обнаруживает себя вне каких бы то ни было условий, ей предстоящих. Не столько даже в словах, ее образовавших, сколько в обстоятельствах, послуживших импульсом ее возникновения в памяти.
Причем, мне было абсолютно безразлично, кому она принадлежала. Или же - чьим достоянием она перестала быть, нежданно-негаданно вовлеченная в диковинную игру трех имен, которая, скорее всего, никогда не разрешится ни в чем более или менее определенном, но лишь послужит причиной возникновения "новой" смутной привязанности к тому, чему суждено оставаться бесконечно-отдаленной точкой догадки, не имеющей никаких предпосылок ни в воле, ни в предощущении.
Невнятная, но все же, вопреки жаре и свету, кое-какая связь возникала, предлагая, по-видимому, явно неверные пропорции. Не то. Не этим. Я рассказывал о другом. Мне были даны значительные полномочия.
Ночная, полупьяная исповедь landlady, у которой я снимал северную комнату, как бы предопределила неожиданное знакомство с Джанис и ее благотворительным магазином, где я коротал утренние полчаса в ожидании автобуса в школу. Это нужно непременно запомнить. Забыть. Услышать от другого. И снова забыть. Решительно важно установить точное время ожидания. А затем вернуться в ночь на кухне и последовать обескураживающему переходу к "проблемам истории", "протестантской этики и феминизма" (notes on margins) как таковым, за которыми звучит непостижимо прямое и потому фальшивое предложение "дать развитие отношениям" (мы пользуемся поспешным и неловким переводом довольно искусно построенного пассажа в 4:30 am). В исповеди, как мне потом показалось, звучала явственная нота настойчивого недоверия к высказываемому, вплоть до произнесения пресловутого "развития" - та же настойчивость упоения, с какой разворачивалась история самоубийства отца семейства (self made man), свершаемого на глазах у жены, в виде акта тщательно подготовленного и взвешенного воздаяния за "все", но именно в этом моменте (сколько я потом ни вспоминал, сколько ни ломал голову, на ум ничего не приходило) возникала путаница, и было почти невозможно понять мотивы, понудившие известного состоятельного нейрохирурга прибегнуть к пистолету (тип упущен, как и положено в художественной литературе, хотя лично я склоняюсь к кольту 44 калибра), поднести ствол к седому виску, и, если верить продолжавшемуся рассказу (а я ежеминутно верю всему на свете - вот почему на протяжении жизни ложь никогда не предавала меня, не то что остальное: зрение, разнообразные математические символы, поэзия, etc.), вышибить мозги на колени жены (вот-вот, придвинемся ближе, именно так: качалка, завывающий в камине ледяной ветер, лишающий медленно рассудка, cartoons в карамельном окошке телевизора; конечно, я все понимаю, я все более чем прекрасно понимаю; что тут говорить, взяли и поехали), тогда как действие, миновав со скрипом, на мой взгляд, слабейшее, а попросту говоря провальнейшее место, уже вновь набирало грозную красоту готического романа, исполненного пышными закатами Луизианы в феерических испарениях болот, инфернальной яркости полудня, связками тлеющих в склепах писем, когда после первых же страниц, на которых мы сталкиваемся с фактической развязкой повествования, начинает разворачиваться "настоящий" сюжет, приоткрывая "подлинные" мотивы, различные "изнанки" заинтересованности действующих лиц, за чем уже впрямь, подобно бумажным декорациям, громоздятся швейцарские пейзажи бездн и высот, предваряя зев ада, охраняемый выжившим из ума почтальоном и шоколадницей. В награду достается бронзовая табличка в непристойно изумрудном дерне елисейских полей, сразу же за поворотом у пожарной части. Занавес резко дергает вверх.
If you not surf here, don't develop here. Первое имя, точнее то, с которого начинается иная игра, имен собственных, ничего не имеющих в собственности - Paulina Reage. С упомянутой выше "исповедью" вообще не имеет ничего общего. Хотя, это как еще посмотреть. Интересна другая деталь, - пишет он в следующем письме - ровно десять лет тому, в часе лета отсюда я впервые прочел ее роман. Он стоил мне двух бутылок Willa Forest, дикого скандала по телефону и разочарования в Шкловском.
Сейчас, когда я пишу это, ей, если верить свидетельствам, 89 лет. Нет - восемьдесят девять лет. Я хочу, чтобы она жила. Мне кажется, что она что-то должна мне вернуть. За ней числится невнятный, но все же, скажем так, долг. Впрочем, неизвестно, как к ней попало то, что ей надлежит возвратить? Описывает ли термин "тавтология" некие закономерности, процесс? Незаметно и постепенно ей было отказано - я уже останавливался на этом, но прошу не упускать это обстоятельство из вида - в спрашивании о собственной природе, равно как о пределах предания (книги), то есть об одной из тотальных форм, предлагающих существование миру вне какой-бы то ни было "картины"...
- Понимаете, - говорит Турецкий. - В этом месте я совершенно перестаю что-либо понимать.
- Не останавливайтесь, не то перестанете вообще понимать. Не спорю, это место действительно кажется темным, что на деле объясняется его принадлежностью к другому эпизоду. А если вы хотите знать мое мнение, - продолжает о. Лоб, - то на вашем месте я бы так не сокрушался.
Так ведь вам нужно что-то определенное? Не так ли? Вы ведь не просто взяли и пришли сюда поболтать со стариком...
- Помилуйте, какой вы старик!
- ...чтобы посетовать на некоторые неясности, темноты, с которыми вам довелось встретиться при чтении? Нет, вам очевидно нужно другое... А если я, быть может, ошибаюсь, поправьте меня. Идет?
- Чепуха какая! Хорошо... вы знаете, ну, никак не возьму в толк, зачем он ее ищет?
- Кого ее?
- Ну, ведь мы постоянно сталкиваемся... с чем-то похожим скорее на какую-то тень, которую он пытается поймать.
- Ну и что?
- Скажите, вот, в первый раз он уехал в начале восьмидесятых... Да? Точнее в начале сентября 79 года. Согласитесь, что выехать в ту пору, вот так, просто, по своим личным, скажем, делам было делом очень непростым, да что там! - полностью безнадежным. Как же получилось, что будучи, если я не ошибаюсь, человеком негосударственным, человеком сомнительной лояльности, он уезжает почти на полгода. Интересно другое. Знаете, у меня много знакомых в Финляндии, естественно образовались, когда мы начали заниматься лесом еще в самом начале... Так я справлялся у них, а они, конечно, в свой черед у других, - доводилось ли кому встречаться с ним в Хельсинки. Посудите сами, тогда там русских было не так уж и много! По пальцам...
- И что ваши знакомые?
- Да вроде никто его там не видел. Не было такого. Понимаете?
- А где же он был?
- Вот это мне и любопытно. А затем, тотчас по возвращении, поездка в Италию.
- И там вашим знакомым тоже не удалось видеть?
Турецкий промолчал. Подозвал официантку и попросил принести два пива. Посмотрел вслед и произнес:
- Замечательное место. Отличное! Кого нужно, всегда здесь встретишь.
- У вас какая-то чисто русская тоска по встречам, - заметил о. Лоб.
- Наверное, хотя я еврей... а помните, у него был приятель детства, или юности, звали его Карловский? Не знаете, что с ним сталось?
- Что-то не могу представить, - ответил о. Лоб. - Не знаю, не знаю. Может, и был. Почему не быть? В детстве много чего было. У меня, например, в детстве была коза. Сколько прошло с тех пор! Скажите, Турецкий, а о приятеле вы тоже где-то вычитали? Ладно, мы уже и так потеряли много времени. Вернемся к вашему роману. Откровенно говоря, там тоже не мало мест, которые нуждаются в прояснении.
- Значит вы согласны, что здесь очень многое неясно, а может, и специально напутано?
- Так-так... - говорит о. Лоб, открывая папку, - Вот и псевдоним, который вы избрали, меня, мягко говоря, настораживает.
- Это не псевдоним, это фамилия моей матери.
- Допустим... - о. Лоб напялил очки. - Кстати, если я верно понимаю, это ваша первая книга?
- Как вам сказать, не такие, конечно, как эта... но были. За границей...
...любой метафоры пролегает следующая метафора. Горящие. Синестезия - беспамятство любого определения. Точно так же как за словом - слово, и за воспоминанием нет ничего, кроме обнаженного строения памяти. Гром не является ни существом молнии, ни ее означающим. Время слуха и время зрения. В назывании времени прекрасным, устрашающим или "кислым" (длинным, легким, твердым...) подтверждается беспомощность перед скоростью распри невидимых материй. Зрение всегда лишь лингвистическая операция, процесс описания, выявляющего возможность (намерение) преодоления фантасмагории пространства между описанием и языком. Меланхолия языка. Как я понимаю, примерно около десяти лет ушло на создание фотографий садов, созданных Ле Нотром - Vaux-le-Vicomte, Versailles, Marly-le-Roi, и т.д. Трогательные замечания о садах абсолютистской монархии во Франции сопутствуют среднего качества отпечаткам в каталоге. Курортный сезон в разгаре. Если следовать автору замечаний (профессору социологии), сады являются манифестаций власти.
- С таким же успехом можно утверждать, что восточные ковры являются символом азиатского способа производства. - Дыша мне в затылок, произносит Паскуале В.
Сады Иеронима Босха, маниакальная регулярность лабиринта парков, где исполненность ожидания растворяется в повторении, преступая риторику зеркала в усилении и изведении симметрии из непреложности. Прошлым летом. Прошлым летом... где же, где же мы были прошлым летом?... Конечно же, на старом 101-м шоссе. Кто же не знает этого места!
- How it's going? Они тебе пишут? - спрашивает Паскуале, легко обживаясь в настоящем, насыщенном сыром и вином. В окне - улица. Дождей давно не было.
- Вроде как пишут... - В окне располагалась улица. Вот что было важно.
- Sorry... Между прочим, я был бы тебе невероятно обязан, если бы ты рассказал побольше об этой таинственной трубе!
- Трубе?
- Brandy pipe! Кисельные реки, молочные берега.
- Ну, он не всегда течет, - сказал я. - Бывает, что и не течет.
- Кризис! - радостно сказал он.
- Именно. И чаще в полнолуние.
Нет, я не мог ошибиться, в окне, действительно, была улица, иголка в лунную ночь.
- Отлично. Все это мне очень нравится. Как бы устроить туда приглашение? - Незыблемый вид улицы в окне доводил до исступления.
- Да брось ты! Проще пареной репы. А это кто? - я показал глазами на худощавого человека в синем льняном пиджаке: тщательно зачесанные назад льняные волосы, очки, проницательный (на выбор: "уставший") взгляд, на дне которого одновременно стояло два отражения: улицы и выставочного зала. В последнем зажгли свет.
- Oh, boy!.. - Паскуале как-то очень по-восточному прикрыл глаза и скороговоркой пропел:
"...multiculturalism and deconstruction are new rage on college campuses - and they destroying a students ability to think and to value. The two movements teach students that objectivity is a myth, and that a students subjectivity whims determine the meaning of text. Here I will explain how philosophers for the past two hundred years have paved the way for today's irrationalism by systematically divorcing reason from reality..."
Последние слова произносятся страстным шепотом. Сахарный храм на горе в русле бывшей реки. Почему "Паскуале" в одном случае наделяется английским языком, тогда как в остальных его ограничивают языком, установленным повествованием? Сахарный храм - для облизывания языком слов. Оральный секс.
Но ее имя было иным. Его не облизать, оно не тает.
Dominick Aury - взявшая псевдоним Paulina Reage, составленный из двух предпочтений, прочтений - Pouline Borghese и названия какой-то захолустной деревни.
- Там наливают, Паскуале. Никакой способ производства не способен произвести вина, вино само создает способы производства!
- Но не репродуцирования! - подмигнул он.
Оказывается (несколько позднее), и это не было ее именем. Ничего особенного. Не попытать ли нам Chardonnay? Ночь прислонила зеркало к окну. Единственное, что не было подвластно руке Мидаса. Формула двойного превращения. Поскольку истинное ее имя исчезает во время войны, уступая место Dominick, - "потому что оно с легкостью могло считаться как мужским, так и женским..." и девичьей фамилии матери - Aury. В этом следовании утрачивается четкое представление об означаемом, скользя по спиралям тройного узнавания и переозначения, "по ледяной тропе принадлежности себе". Осень как пора года. Либо другая пора, сочащаяся из пор времени. Иногда как определение того или иного отрезка истории. Мне кажется, будто я писал тебе, что фигуры речи тут обретают осязаемую явь. Аркады такого непрестанного переименования в буквальном утверждении неуязвимой связи и есть, по сути, ее роман, который она "начинает писать, лежа в постели на боку, поджав ноги к подбородку (странствие письма во младенчество), мягким черным карандашом", одним из известных инструментов нежного пресуществления лица в иное, в фаюмский иней персоны - прикосновение, второе прикосновение, третье прикосновение, несколько прикосновений, - продолжая с явно нескрываемым изумлением и много спустя возвращаться к своим онейрическим провалам (качели), к этим "кратчайшим мгновениям перехода из яви в сон, скользящим в неуловимом падении вдоль возможности сосчитать, вдоль осей, направляющих их смутных поименований, когда цвета вновь собираются вокруг полюсов и становится возможной только самая дикая, самая жестокая и чистая любовь, или же, скорее, к которой всегда только и обращается сознание, тающее на пороге перехода, - в которых к детским образам сокровенности, бичевания и цепей добавляются символы заемного принуждения... не понимаю, но знаю наверное, что все эти годы они непостижимым таинственнейшим образом хранили меня.
Я ощущаю непосильное смущение. Сад огромен. Имя закрыто. Ее фотография елочной спазмой продергивает то, что за глазом. Сводит желудок, как если бы в чистейшем, безо всяких примесей, понимании, лишенном предмета. Итак, рукопись отсылается по почте, частями. Мы видим, в какой восторг он приходит. Горят стекла окон на закате. Шум проходящего поезда отсылает к Европе, словно нарцисс, склонившейся над зеркальными потоками сообщений. Он требует: "еще". Известная фраза. Как все знакомо! Воздух напоен тлением осенних лесов. Длительность закрадывается в каждый жест, каждый мгновенный образ, понуждая движение обрывать себя в призрачной нескончаемости. Но нет уж! Отнюдь не все. Книга движется еще медленней. Пчела повисает в воздухе. Покуда не иссякает, как увядающий выстрел. Греза не может служить повествованием отстоящей "реальности". Я говорю вам, многомудрые риши, - не мужское, не женское, но и не не мужское и не не женское. Существуя только в одном экземпляре рукописи. Остальное вы помните - эпопея публикации, поисков автора, скандалов, переводов, болезнь и смерть Полана. Подагра, чума, костры.
Как собака, как оглохшая собака, свернувшись клубком в его ногах... Все же, чем была ваша книга, мадам?
- "C'etait une lettre d'amour", - не уступает Чеховскому "Шампанского".
И уже совершенно по другому поводу (хотя въяве вероятно услышать - кто же вы, мадам?): "кто же, в конце концов, я, если не та самая неисчерпаемая часть чего-то, что ничем не именуется, кроме утраты, а здесь носит имя eidola, - но что известно тебе о тех краях? Скажи, быть может я не знаю, но кто побывал там и вернулся? Как произносит его рот слово aidoneus? что в это время делают его руки, ноги, - но это и есть ночь и потаенность, ее восхитительная, вскипающая пеной безмыслия частица, тень которой, облекая себя и меня, нескончаемо уходящую от нее, никогда не предавала меня никому, ни единым помыслом, словом или действием, - находящая возможность связи с другими такими же, исчезающими в отражениях, да, только через средиземные глубины воображения, сквозь нескончаемый шелест skia, благодаря снам, снимающим слой за слоем плоть, разматывающим клубок крови, снам старым, как мир, как разделение ножа, танцующего на нити, как змеиный укус, (но, вот что до сих пор остается загадкой: откуда было взяться на Невском проспекте змее, хотя возможно я путаю, и все произошло в других местах, где больше солнца и небо гораздо выше"), как автобус Encinitas - Chateau Roissy. Перемещение вдоль путаной линии ожерелья (кислорода). Остается приписать: какое бережное побережье.