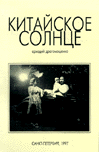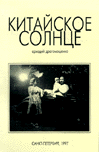Слева зеркало, справа окно. Да-да, еще в туманном детстве, когда я спрашивал о заброшенном замке, стоявшем на скале, возвышавшейся над округой, мать прикладывала палец к губам и, умоляюще глядя поверх моей головы, едва слышно молила не пытать судьбу, поскольку в давние времена, следовало из ее поспешного и, тем не менее, каждый раз обстоятельно повторявшего себя повествования, жил в том замке баснословный злодей, главным наслаждением которого было мучить детей, а затем поедать их живьем. Пояс целомудрия располагает к определенному роду размышлений. Каких детей? Плохих? Детей, которые держат ночью руки под одеялом? Съевших остатки торта и пытающихся это скрыть от Бога? Не выйдет. Отнюдь. Еще чего. Так расправляла свои крыла мечта выучить итальянский. Я думаю о преимуществах знания перед незнанием, в том числе знания итальянского языка, которое позволит, на худой конец, не только петь, но и читать в оригинале Данте Алигьери. Кому он на хуй нужен, твой данте.
Детей, в чьих глазах цветут бледнейшие во всем мире цветы, а тело сковано хроническим насморком? Детей, которые в горячечных мутных фантазиях раздевают - и что маниакально повторяется каждую ночь... ни с чем не сравнимое наслаждение, наподобие итальянского языка или языка как такового - живущую через дорогу двумя домами подалее, к площади, несколько месяцев тому приехавшую из столицы учительницу музыки, и делая это иной раз чрезвычайно медленно, а иногда исступленно быстро, не в силах, впрочем, пройти самую малость, всего лишь последнюю фазу, черту, и потому ничто от того не меняется, поскольку непонятно, что с ней делать дальше. Остаток. Потому что это самый настоящий тупик, безвыходность, какая только может приключиться во снах, это - подлинный нескончаемый кризис бессилия! Нет, такие дети впрямь достойны того, чтобы их поедали живьем. Какое там!
Просто детей. Дети, скорее всего, определенно превращались в абстрактный материал, и каковое превращение в итоге оказывалось не совсем ясным. Каким образом? Почему? Я смотрел на скалу, на замок и, отвлекаясь от собственного образа и тела, к тому времени неотступно следовававших за мной по пятам, наподобие двух блуждающих осей отражения, старался понять, как возможно существование "детей" вне всякого статуса, придаваемого им их поступками или функциями. Да и возможно ли такое? Где же то, что именуется мудростью младенца (наподобие врожденного умения плавать, которое в мгновение ока теряем, очутившись на берегу океана, обнаружив впервые, что окольцованы собственным телом)? Детство как чистейшая безотносительная функция (под стать амальгаме) представало лакомой наградой тому, кто видел его в качестве операторов удвоения, умножения и бесследности. Я сказал матери, что начинаю понимать мотивы злодея, некогда жившего в замке, стоявшем на скале, царившей сквозной буквой пролета над окрестностями. "Так ли?" - испытующе пристально глянув за пенсне в ультрамариновую бездну моих глаз, спросила мать.
Я провел ладонью по лицу, как если бы хотел снять с него невидимую паутину, - жест, почерпнутый из прочитанного (второй шкаф, третья полка сверху, абрикосы за окном, ноготь цепляет за шелк расшитой полевыми маками и васильками пузырящейся занавески, голова после купания точно в раскрашенной охрой глиняной скорлупе: два определения заведомо лишние), казался мне как и величественным, придающим нужный вес в глазах зрителей, так и выражающим неслыханное одиночество тонкой детской души. Денег мне давали мало. Приходилось воровать в раздевалке гребного клуба, благо я еще сидел на плоту, осваивая автоматизм управления веслом. Только потом я заполучил "Ежа", посуду времен взятия Измаила, но я был безмерно горд и вел его по водам с неподдельным изяществом, - байдарка будто что-то изменяла во мне, стала the best part of my soul. Владение легкой ладьей не только изменило во мне метафизическое ощущение мира, но и сам мир: неожиданно я открыл, что понимаю язык зверей, птиц, некоторых видов насекомых (не всех), слышу как растет трава, о чем негромко под ногами переговариваются мертвые, причем однажды, направляясь по эллингу с "Ежом" на плече к выходу, вопреки неукоснительно крепнущим привычкам постоянного самоуглубления и анализа, я прислушался: невнятная скороговорка и вздохи доносилась из дальнего угла, скороговорка прерывалась восклицаньями, затем наступало кроткое молчание, слышалась сомнительная возня, а затем чей-то отчужденно-знакомый голос вновь недовольно бубнил, словно упрашивал кого-то, так иногда спросонок голуби проклевывают кисею утренней тишины вечными и бесплодными жалобами. Подойдя ближе, я тотчас понял, что сравнение увиденного с голубями окажется чрезмерной натяжкой. Гиббон (он зверски выгребал на каноэ и на пари ел мух), перекинув веревку через балку, подтягивал Зою, буфетчицу с соседнего пляжа, на шею которой была наброшена петля (уму непостижимо, как это ему удалось проделать!).
- Уверен, что в таких случаях своего добиваются обещаниями, - сказал Турецкий.
- Если бы... - буркнул о. Лоб. - Так бывает не всегда. Должно быть, он ей чего-то наврал. Уверен, что ложь более универсальный подход, чем разного рода посулы.
- Но позвольте, разве обещание не может быть лживым?
- Психологически обещание зачастую достаточно себе.
- Я ее выиграл у Шнифта в буру, - кося красным глазом и выдыхая жар пустынь сказал Гиббон. - Можешь попытать счастья, они играют за эллингом.
И закончил:
- Хотел бы я видеть тебя на моем месте!
В ответ мне оставалось пожать плечами.
Происходило все до дикости четко, едва ли не машинообразно. Гиббон тянул веревку, девушка хрипела, Гиббон нечленораздельно ругался, ждал одно, второе мгновение, затем веревку отпускал, Зоя валилась на тырсу, Гиббон, подобно льву, бросался к ней и принимался тащить с нее трусы, но Зоя превозмогала обморок, открывала глаза, мучительно мычала и с неожиданной для ее хрулкого телосложения силой отбивалась, но Гиббон опять опрометью бросался к валявшемуся концу шкерта, снова начинал тянуть, все шло по своим кругам - я чувствовал, что еще немного, и мозг не выдержит, я медленно сходил с ума. Черепахи, Сизифы, Ахиллы, вращая свою карусель, исступленно устремились друг за другом, точно в хороводе на краснофигурном килике. "Гиббон", обратился я к нему, раскрывая портсигар и предлагая ему угощаться. "Гиббон", повторил я, зажигая папиросу и красиво выпуская горьковатый дым моего любимого сорта. На мне были белые фланелевые брюки, бежевый пуловер, под который в этот день я надел пурпурную шелковую сорочку, на ногах - замшевые туфли на веревочной подошве. Ветер ласково играл моими волосами.
- Реальность, любезный Гиббон, возникает, - но прими мою искреннюю благодарность за предоставленную тобою эмпирическую возможность убедиться в подлинности того, что я намерен высказать... Нет, - и ты вправе мне попенять за допущенную неточность, - не возникает, но является из "реального" как следствие особого ощущения возможности - я подчеркиваю! - эту реальность утратить. Короче, реальность не существует вплоть до момента начала ее исчезновения, но также нельзя утверждать, будто она, реальность, существует в несуществовании, а если она возникает в процессе собственного распада, она неминуемо переходит в категорию действительности, поскольку мы воспринимаем ее в осознании ее же действия, i.e. действительности...
Что-то еще мелькнуло в голове относительно стрижей и липового чая, однако я почувствовал, что неотвратимо теряю интерес к казавшейся столь заманчивой идее. В горле запершило. Работа была не закончена. Времени оставалось в обрез, а у меня конь не валялся. Но первое предложение, которым я намеревался начать рецензию на книгу "Холоднее льда и тверже алмаза" для "КоммерсантО Daily", давным-давно было уготовано самой судьбой.
Остальное, как в таких случаях водится, не представляло трудностей: "поскольку сегодня книга стала ничем иным, как ритуальным текстом, с первых же страниц которой (какое бы название она ни носила) читателю предлагается проникнуть в "центр циклона", потому что именно там (где там? Что за вздор!) возможно чтение как разделение, расчленение опыта исключительного по силе и воздействию.
Прежде всего, следует отметить, что предлагаемая автором перспектива не имеет ничего общего со злом. В самом деле, наш космос функционирует как/и человеческое (антропологические экстраполяции убираются)... <...> хотя сюжет, анекдот сам по себе кажется слишком уж незатейливым, чтобы быть убедительным. Действие книги открывается тем, что в последнее воскресение августа некто спешно пишет рецензию для известной газеты (рецензия заведомо заказана) на роман, который начинается ничем не примечательным описанием раннего утра в квартире, обстановка которой носит очевидные следы ночного пьянства. Действующие лица просыпаются один за другим, и по мере возвращения в социальный процесс каждый пытается продолжить историю, вроде бы начатую им накануне. Начала историй читателю неизвестны. Неизвестно также сколько их было начато. Можно предположить, что некоторые присутствующие играли и продолжают играть отведенную им автором роль пассивных слушателей, что делает догадку о подлинных рассказчиках весьма актуальной. При всем том возникает подозрение, что истории в их последующем изложении оказываются вовсе не теми, что рассказывались вчерашней ночью. К примеру, одна из них, как следует из разговоров, доносящихся с кухни, где готовится кофе, началась с повествования о запуске воздушных змеев и небольшом английском городке. Увы, одного этого упоминания оказывается явно недостаточно - только-только воображение начинает блаженно таять в краях темного кирпича, плюща, запахов горящего в каминах угля и т.д.(пишущий рецензию, несомненно, отдает себе отчет, насколько он необязателен в риторике), как читатель начинает понимать, что речь идет о совсем другом, и, очень может быть, даже о некой подоплеке написания воспоминаний человека-волка, точнее о том, как одному из известных русских литераторов той поры приходит в голову идея (впрочем, немного громоздкая) мистификации, которой по истечении времени не преминули воспользоваться определенные круги в целях проникновения на европейский финансовый рынок. Попутно увлекательно рассказывается о русской художественной жизни летом в Одессе, куда съезжается цвет литературы из Петербурга и Москвы. Кто-то из гостей (его фамилия слегка настораживает), кажется, приват-доцент Лобов, оговаривается: "Не уверен, что Панкееву не удалось бы встретиться с W.." Все делают вид, что не слышат этих слов. Сам Панкеев деланно улыбается. Он жалок. Причину его улыбки мы узнаем позднее. Иными словами, предложение, сделанное ему на 10-й линии, делается не впервые. При всем при том определяется, что ни начало этой, отдельно взятой истории, ни ее фальшивое продолжение в нашем чтении (собственно, сам роман) не может рассматриваться отдельно. А в это время читатель, а вместе с ним и мы понимаем, что нам предстает иной, хотя опять-таки очень несложный порядок повествования: от конца к началу, несмотря на то, что точку пересечения вымышленного продолжения вспять и действительного развития истории к ее будущей развязке, поначалу невозможно разгадать как начало (постоянное начало?) возможно иного рассказа, не имеющего отношения ни к квартире наутро, ни к проснувшейся в ней компании. Немаловажная деталь, которая не сразу бросается в глаза, сможет, как позднее кажется, облегчить понимание сложившихся обстоятельств, но даже осознание того, что действие происходит в городе, где идет (15? 30? 40 лет?) война, лишь усугубляет путаницу, привнося в повествование привкус банальности, - "поворот" к необитаемому острову кажется неминуемым, если бы не телефонный звонок и подслушанный вслед за тем разговор - неважно, ты бы лучше позвонил утром, потому что он уезжает, все-таки он остановился на эпизоде с телефонной будкой, он ему очень понравился, он сказал, что, если бы знал раньше, то по-другому отнесся бы к актерским пробам, тут, знаешь, эта актриса, не скрою, у нее все неплохо получалось, но чего-то в ней недостает, жалко, конечно, ну, все, не траться, клади трубку, как приедешь, сразу звони; а тому, кто хочет проникнуть в роман во всем его реальном объеме, можно только посоветовать обращаться к спрашиванию метафизического плана, поскольку аморфное и лирическое повествование, отягощенное неуместной иронией, в конце концов обнаруживает скрытые разветвления фабулы, и даже не столько самой фабулы, как возможностей такого разветвления. Но что в самом деле неожиданно, так это бережное, едва ли не благоговейное обращение к традиции подробного прописывания характеров, и что в будущем, если автор не изменит себе, обещает стать тем, что называется "большим стилем", и что, конечно, сегодня утрачено множеством пишущих. Фактически, эта первая книга автора, известного ранее по более чем скупым журнальным публикациям, изданная с неожиданным вкусом, на хорошей бумаге, робким, однако не чуждым высокомерия тиражом, предлагает на первый взгляд, не оставляет возможности для мысленной проекции будь то портрета друзей, либо мира самого автора... мне не нравится, что тебе придется по сценарию кончать самоубийством, все это настолько безвкусно, что, поверь, мне просто тебя жаль... который сегодня кажется особенно нелепым и старомодным: классическая последовательность письма, не унося в иные времена, действует, между тем, как почтовая открытка, отправленная неизвестно когда неизвестно откуда неведомым корреспондентом утраченного места/времени действия... - о. Лоб, отвел взгляд от страниц, лежавших перед ним и подумал, что всему свое время. Теперь, а это становилось очевидным, наступало время уходить и передвигаться по улицам к другим местам. Жаль, подумал он, вечер обещал быть легким и приятным, как жизнь замечательных людей.
Но к сердцу подступала знакомая тошнота, означавшая одно - какой бы выбор ни был им сделан, тошнота останется, - как осенняя головная боль (может быть, это и есть мигрень, или, на худой конец, подагра, или моя обыкновенная жизнь). О. Лоб почувствовал, что начинает слегка задыхаться, и, тем не менее, надежда на исцеление вином его не особо влекла.
Словно сквозь стекло, он видел, как беседуют приятели, как за окном в лиловом отсутствии плавает (ты думаешь, плавится? - конечно, нет) снег, и чем ярче становится подземный свет фонарей, тем невразумительней то, что вырастает из сумерек. Идучи по Фурштадтской, о.Лоб несколько раз остановился, как бы боясь звуком собственных шагов что-то отпугнуть - то, что обещало явиться ему, и предвестием чего стало случившееся с ним в кафе удушье.
Он пересек площадь у цирка, но по недолгому размышлению повернул назад к Литейному проспекту. Но и кафе, и разговоры приятелей оказались в неопределенном, в некоем не совсем отдаленном прошлом. А помнить настоящее, подумал о. Лоб, дело совершенно бессмысленное. Достаточно сказать, что выражение "помнить настоящее" лишено смысла изначально. Помнить же прошлое невозможно, потому как в самом воспоминании (в действии) его прошедшее превращается в иллюзорное настоящее, а настоящее отнюдь не нуждается в воспоминании самого себя. Драгомощенко не прав, сказал он вслух. С другой стороны, я не могу присутствовать "здесь", я всегда словно подбираюсь к произошедшему "сзади", из прошлого уже произошедшего, - любая мысль ведет себя так же. Но все же как я не люблю этих, вот... жителей со своими псами, по вечерам, - он отвлек себя преднамеренно и снова, ускользая от призрака ответа, ускорил шаг. Работа его ума в первую очередь ему самому более всего напоминала некоторую рефлекторную деятельность: раздражение - реакция (маятник). То, что десятилетия тому вызывало у него едва ли не головокружение, учащенное сердцебиение, сложные предчувствия, предвосхищения возможных мгновенных изменений, теперь стало непоправимо иным. Впрочем, это произошло еще задолго до первого исчезновения Карла. Он явственно увидел тот день в замедленном движении всевозможных предметов, световых пятен, из которых, чуть наклоненный вперед, вышел Карл, опустился в кресло у стола, повертел книгу в руках и тихо произнес: "Лобов, мне не повезло. Мне не повезло даже потому, что я думал, что мне очень повезло. А надо было думать, что это бред, и никогда больше к этому не возвращаться." То, что Карл ему рассказал, могло быть сущей ложью, но к сожалению или к счастью рассказанное было правдой. Простой и доходчивой. Доступной ребенку. Карл мог читать - как любой человек читает газету, - все, что находилось на компьютерных носителях. Он мог читать и то, что "находилось" в рабочий момент в оперативной памяти. Он это видел как-то по своему, но "увиденное" мог переводить в доступные ему знаковые системы. Впоследствии перевод оказался наиболее узким местом. "Знаешь, я ведь все вижу, все понимаю, но как это все передать?" Картинки же с ограниченным числом модификаций он просто описывал - вот лес, за лесом река, на берегу голая баба, и так далее. Картинку открывали, деньги он клал во внутренний карман. Самое странное происходило в виртуальной реальности. Именно это было менее всего понятно. Ее динамическая среда принципиально не могла сводиться к диспозиции данных и их структур (аналогия с вирусом), но к вовлечению этих данных в взаимодействие с воспринимающим, и так далее. Потом Карл исчез. Особенного секрета в том, кто был в нем заинтересован, ни для кого не было. Он и сам знал, что многое уходит на глазах, просто на глазах, уходит и все. И что их беспечной и безбедной жизни наступает конец. За несколько дней до исчезновения он забежал к Ю., которого спустя два месяца упекли на всю жизнь якобы за вскрытую сеть Fargo Bank'a, оставил ему немного денег, так, на всякий случай, а тот в тот же вечер передал их Лобову, в конверте там находились не только деньги, была также и тонкая тетрадка с записями, смысла в которых Лобов после более чем скрупулезного прочтения не нашел.
Конечно, все стало иным. Как и любовь, пробормотал Лобов, не сдвигая глаз от линии крыши, "как и любовь" - ничего лучшего не придумать. Впрочем, все пространственные категории нерелевантны значению в описании того, что занимает меня в данный момент: настоящее есть постоянная агония отсутствия, - начал он снова, как бы совсем не заинтересованно и буднично, рассеянно пошевелив при этом пальцами в воздухе, определив про себя, что свойственная такому моменту жестикуляция должна была бы быть невыразительной, вялой, что в итоге можно было бы обойтись всего-навсего легкой гримасой недоумения, вызванной неуместностью самой гримасы, - корректней так: агония установления не-тождества. Отсутствие также никогда не свершается, собственно, мое время (или я сам) и есть разрыв времени как таковой, небытие, угрожающее самому себе отрицанием. Тут-то и получается, что оказываешься перед этим разрывом наподобие Нарцисса, который не в состоянии переступить черту, отделяющую его от самого себя. Дальше шло про вечерний свет и утренний снег в Нью Йорке, следовали другие образы, их объединял пронзительный холод, отстраненность и вместе с тем странная необходимость существования. О них возможно было сказать, что они бесцельны и потому бесконечны. Их нельзя было обменять ни на какое воспоминание, но своей несомненной силой они вызывали хрупкое чувство неотвратимости наступающего, неизвестного, и желание чего было явственно.
С Литейного моста о. Лоб смотрел на заснеженные кварталы, - в детстве, вспомнил он, здесь была река, у стены крепости люди весной загорали. Люди загорали также и зимой. Еще, кажется, он ходил в школу. Да, естественно в школу. Там были... странные шелковые занавеси, неистребимый запах картофельного пюре (он незаметно слился с первыми сексуальными мечтами, от чего было позднее очень не просто избавиться), а у сторожа жил щегол в клетке. Свяжись с тем, что добыто, соединись с тем, за кем следуешь. Вот именно. Давно пора. Глядя с моста на искусственный холм с сахарной церквой, освещенной хилыми цветными лучами, Лобов рассеянно (скорее, по привычке) хотел еще дальше понять, как все, что окружает его, может иметь к нему отношение. Машинально он потрогал пальцем щеку, где еще напоминал себя узкой свежестью недавний порез от бритья. Ощущения кожи пальца и кожи щеки на миг сошлись в одно. В прикосновении терялась возможная глубина. В любом пункте высказывания разрушается время, скорость его распада зависит от намерения продолжать. Каждая часть тела имеет имя, которое ничего не означает. Совокупность всех этих частей также имеет имя, которое тоже ничего не значит. Голубей мы стреляли из пневматического ружья. В недавнем разговоре в кафе с одним молодым писателем он попытался высказаться на эту тему, но сказал совсем другое, и теперь это другое тоже занимало его, непрошено заняв место среди "окружающего", потому что слова писателя о "музыке языка" на удивление не вызвали ожидаемого отвращения, но напротив напомнили что-то, что он полагал необходимым выяснить, наподобие того как иногда забываешь какое-нибудь слово, и представляется, что не вспомни его, все начнет монотонно исчезать, все, что удалось ценой значительных усилий собрать за многие годы, и поэтому он, упустив, вероятно, звено в рассуждениях своего нового знакомого, а, может быть внутренне обрадовавшись представившейся возможности, сказал, что от музыки (любой) он требует только одного. Чтобы она не раздражала. Ни "страстью", ни "гармонией", ни громкостью, ни "красотой", etc., и такой удовлетворяющей его вкус музыкой является на первый взгляд отсутствие музыки вообще, - ее растворение в шуме его слуха, иными словами в ожидании ее.
Я подразумеваю такую музыку, - думал он, - которая развивает себя как бы вспять, и истоком которой может служить мое тело, собранное из разного рода последовательностей, направлений, препинаний, замещений, но я не настаиваю на непременности такого ощущения. Да... скорее, ощущения, невзирая на невразумительность этого слова. Наваждение стлалось за мной, как дым степного пожара. Нас возили в кривых ящиках из прозрачного кристаллического металла (между тем, то, что для других оказалось несносной пыткой, требовавшей незаурядного мужества и выдержки, для меня лично обернулось возможностью удовлетворить ненасытное любопытство, - причем, не следует упускать из вида, что проблема перехода из ночных фантазий в явь представала предо мною как теоретическая задача, взыскующая необыкновенных усилий, требовавшая наряду со всем приумножения, так сказать, знания, и я ждал, чтобы, произнеся еще раз свое "нет", ввести уравнение утверждения в сонмы видений, не поддававшихся разрешению в знании), а серебряные, золотые, изумрудные, выкованные из медных подземных кож, луны крались по нашим следам как эхо небытия, подбираясь на ночных остановках все ближе и ближе к хрупким порогам слуха, где дышали на прозрачные стены, вселяя в детские сердца сладкий ужас несбыточности и сонное предчувствие бесконечности. Наипаче всего меня поражала бесшумность нашей жизни.
Дым осенних костров на окраинах обжигал легкие при глубоком вдохе, морозы теснее подступали к всевозможным растениям. Зернистость, острота, хвоя.
Безмысленно круживший вокруг свечи покуда еще призрачного декабря, сгорал мотылек осени и возрождался в истончении горизонта, перерезавшего ложное сияние перелета. Вопрос вполголоса: "что изменилось бы в предыдущем высказывании, если бы автор написал: "остро обвивая запястье"? Ответ: "ничего". Может ли такой ответ заполнить пробел в тезаурусе? Ответ: "сжигая свечу горизонта, облеченный в ложное сияние осени, призрачный перелет по уступам истончения нисходил к бессмысленному возрождению очертаний прошлого предложения." Продолжительность нажатия на клавишу извлекает количество повторяющего себя знака. И что указывает на вероятную важность другой части высказывания, а именно - "дыма морозных костров", и т.д. Как сделать так, чтобы никто не умирал? Изобретение элемента под номером "Х". Обретение неизвестного в уравнении сходств. В огромных волосах земли тонкая смерть звезды, сравнимая с возвращением божества в зрачок.
Иначе зачем вообще оно возникает и, помимо того, предлагает себя предметом рассуждения? Но я не понимаю также, откуда берется необходимость вообще "высказываться". (С этого момента мы читаем написанное другим - изменение имен). В силу воспитания и перенятого опыта я довольствуюсь скупой мыслью касательно того, что литературное высказывание (т.е. особо сконструированное выражение) вызывает (или должно вызывать) определенные реакции у того, кто его воспринимает. Так, например, обладай особыми способностями, я мог бы вызвать у читающего представления, эмоции, образы, идеи, узор взаиморасположения которых в свою очередь создавал бы ощущение непреложности и истинности переживаемого высказываемого в момент его трансформации в опыт воспринимающего. Но коснемся даже такого банального и незначительного момента, как сопряжение ужасного и прекрасного, engine взаимодействия которых обеспечивает стоимость возвышенного. Если исходить из того, что рассмотрение ужасного возможно лишь в перспективе неукоснительного требования категории прекрасного, или того, что якобы противостоит ему, мы опять-таки неизбежно возвратимся к тому, что эти термины отсылают к высказыванию, в котором возможно их "явление" (пусть оно и не принадлежит мне). Вместе с тем высказывание в обещании подобия порядка определено собственными границами (в противном случае "окружающее" следовало бы воспринимать как одно незаконченное предложение в разомкнутых кавычках), а эти границы носят имя ошибки, которая обладает неисчерпаемой возможностью изменять самое себя и окружающее, - вирус. Высказывание как мыслительный акт изначально двойственно. К примеру, для меня на протяжении многих последних лет не было ничего ужасней мгновений (в подлинном, "высоком", античном смысле) нежели пасмурный прямоугольник окна, на котором время от времени останавливался взгляд, - такая погода, как известно, вовсе не редкость в наших краях, - безотчетный ужас пред которой в соединении со звуком нескончаемо каплющего засаленного кухонного крана, несомненно относящегося в этой диспозиции к разряду прекрасного, я испытываю и поныне, и что, тем не менее, ввергает порой в упоение, которое я вправе и по прошествии времени называть переживанием возвышенного. Нет, скажут мне, мы не в состоянии продолжать этот разговор, мороженое тает в руках, горят на закате окна, умы смущены шумом листвы и мыслью о природе шума как таковой, но прежде всего, мы потому не можем продолжать разговор, что не ввели столь необходимое антропологическое измерение. Да, мы его не вводили. Не вводили предумышленно. Чтобы это сделать, следует, по крайней мере, не считать человека границей собственного о себе высказывания, - иными словами нескончаемым отклонением от оси представлений о самом себе. К тому же я не расположен любить людей (в любом из щедро предлагаемых мне смыслов), так как у большинства из них отсутствует... ну, к примеру, желание сказать обо всем сразу, а "если бы мы не говорили все, откуда было бы знать, что нам свойственно?" Трюфеля отыскивают не провидцы, но свиньи. Я и сам вызываю у себя интерес лишь только как спятившая функция исключения, наблюдая которую (опять-таки, благодаря воспитанию и обученности) возможно вообразить некоторые невнятные продолжения во всевозможные области великой двойственности, чьи взаимопроницаемые потоки кажутся недвижимыми.
Подобно речной глади, которую нет-нет и разобьет рябью слабый ветер, текущий с холмов, привнося некоторое разнообразие в дремотно колеблющееся (насколько же, право, неудачно слово!) заблуждение, но к которому неотвратимо относит в памяти, приходящей во все более нелепых одеждах в одни и те же, исступленно повторяющие себя, сновидения. Каждый, даже едва слышный стон, вырывавшийся у спящих, изможденных жарой и дрянными дорогами (измученного собственным идиотизмом государства) детей, сотрясал паутину лучей, ткавшую вокруг нас основу для появления демонов, и тогда судороги, как обнаженные электрические кабеля, пробегали любовью даже по моему телу, которому я дал слово всю жизнь никогда не спать, дабы неусыпно наблюдать жизнь во всем ее восхитительном однообразии. Мы продолжали уменьшаться в размерах, чтобы вместить как можно больше из того, что перерабатывалось нашими телами в бессмертие (известное дело, оттого и уменьшались!), конденсат которого вязкой, по цвету напоминающей коньяк, камедью сползал из незаживающих надрезов на коже по хромированному дренажу вовне. Отдаленно это напоминало где-то виденную гравюру с изображением сбора латекса в душных лесах Амазонии. За исключением того, что дальнейшая его судьба никого не интересовала. Распространение низкоточных технологий, прав на птичьи внутренности и бессмертие, как и раньше, являются прерогативой правительства. Конечно, много спустя мне довелось узнать о дальнейшей судьбе эликсира, однако, признаться, сознание отказывалось верить тому, что я услышал от человека, на одном духу прошептавшего мне на ухо всю эту историю, и, верно, не понимавшего возмутительную вздорность того, что он поспешно облекал в слова, время от времени с лихорадочной, просто неестественной жадностью отпивая из захватанного стакана. Надо отдать должное, рассказ наводил на некоторые размышления, которым я позволил себе предаться, наскоро распрощавшись со случайным (так уж и случайным?) знакомым, когда пришло тому время, вследствие чего обнаружил себя идущим заснеженными линиями Васильевского Острова по направлению к Академии художеств. Настал вечер. Медленно валил теплый снег. Я пытался собрать разрозненные части услышанного в единую картину. Клетки пространства впитывали время, словно в некоем химическом процессе буквосочетания или припоминания. Иногда я вздрагивал от устрашающей явственности представавшего уму. Деление пространства, как и раньше, оставалось единственной возможностью представлять время. Я видел Литейный проспект, мост через высохшую реку, на месте которой расположились кварталы особняков под лоснившейся от дождя черепицей, где негромко звучали ноктюрны Шопена и гипнотически горели витражи в лучах садящегося солнца; я видел косые, как у Льва Толстого, линии дождя, очень крупно, будто в увеличительное стекло, и в то же самое время, за кулисами медленно проливавшегося за спину снега - старика на велосипеде, пыльные вихри, и с грохотом катящиеся по асфальту тыквы, затем я оказывался в запущенной квартире, где громоздились штативы с укрепленными на них сосудами (надо думать, капельницами), а под ними было простерто неподвижное тело, соединенное разноцветными проводами, шедшими от головы лежавшего к трем или больше компьютерам. Можно было повторять само слово. Существовало мнение, будто такое повторение (обязанное, наверное, практике суфизма) изменяло внешность человека до неузнаваемости. Я слышал металлическое треньканье, но одновременно с этим крался по пустынным коридорам огромного ночного здания, держа перед собой карту и карманный фонарь, до рези в глазах вглядываясь в сложное плетение не совсем понятных мне голубых линий и пунктиров, по которому было написано - "возможное пролегание трубы". В самом сердце монетаризма, риторики обмена и круговорота капитала - вечное невозвращение. Но в Соловьевском саду я присел на холодную скамью, достал из сумки бутылку и единым махом опустошил ее до половины. Последовавшая за водкой сигарета окончательно вернула интерес к окружающему. Я накинул на открытую голову капюшон и внезапно рассмеялся - вот почему о. Лоб тогда толковал о Тантале. Было ли это озарением? Трудно сказать. Все было не так, как казалось, все обстояло совершенно по-иному. Наша привычка непременно доходить до предпосылок, искать мотивации в очередной раз ввела в заблуждение. Именно тут я понял то, что до сего момента как бы ненамеренно уводило в сторону, и то, как близко я находился от грани неотвратимой катастрофы.
В следующий миг, приметив краем глаза движенье тени у ограды со стороны Съездовской линии, я бросился в снег, на долю мгновения опередив последовавший вялый хлопок. Когда я поднялся, никого нигде не было видно. В том месте, где моя щека прижималась к земле, темнела проталина. Война кончилась, и пели мускулистые птицы. Жаль, что мы ошиблись, но втройне жаль, что мы забыли, в чем заключалась ошибка. Тишина, стоявшая вокруг, показалась неожиданной наградой.
Молчание охраняло нас от чрезмерной впечатлительности в долгих, как северная весна, географических перемещениях. Одна только девочка (роль ее во время выступлений в селах сводилась к произнесению довольно небрежно написанного монолога в русском духе: о страдании и возрождении души в горниле такового), остриженная ежом, стоявшая в углу, где, как ей казалось, было прохладней, она через равномерный промежуток времени повторяла что-то вроде: "Не представляю себе, что настанет время... что я стану красивой, что я выйду замуж!" Прижимавший к груди истлевшую мумию тибетской мыши мальчик, имени которого мне, увы, не вспомнить, как не вспомнить того, как выглядел в лунном сиянии труп мыши, лишь однажды открыл мечтательно смеженные веки, на которых с немыслимой быстротой сменяли себя покорные картины его видений, и отвлекаясь от своего постоянного размышления о природе понимания (вынужден сказать, что оно не блистало оригинальностью, хотя в некотором роде было достаточно любопытно, и действительно, - странным образом связанное со скрупулезными наблюдениями поведения воздушных змеев, оно утверждало абсолютную незаполненность какого бы то ни было действия, а по истечении нескольких умозаключений и знака, пустота которого представала суммой проекций всех возможных, будущих, смыслов, и что в теологическом отношении давало возможность представить в том же ряду и отсутствие Бога, как его же всепоглощающую интенцию стать Собой, хотя дальнейшее, следовавшее рассуждение представало очевидно слабым и аляповатостью напоминало апорий о стреле...), открыл глаза и безо всякого осуждения или же вызова сказал: "Вставила бы ты себе, сука, палец, а там бы и поняла, насколько неизбывно обречено самому себе наслаждение." Это произошло, судя по записям, в начале лета в городе бумерангов и числа 11, в городе, где закончилось наше детство и исчезла Ася, девочка, стоявшая в углу, мечтавшая выйти замуж, и т.д. Говорили, будто алчные и коварные жрецы возвращения принесли ее в жертву второразрядному божеству ветра, обладателю стеклянных бескровных губ, заявляя как бы этим действием, что хотя они де и намерены манкировать своими обязанностями, однако вынуждены во имя сохранения соразмерности космоса следовать, увы, рутине, ничего не имеющей общего с подлинным порывом души и истинным знанием. И вместо того, чтобы в созерцании приумножать величие и великолепие одиннадцати, им, вот, приходится заниматься формальностями, одной из которых как раз и был запуск воздушного змея с распятой на нем девственницей в горние сферы. А на деле, насколько я понимаю, убедив предварительно девочку в том, что она таким образом соединится брачными узами не то со змеем, не то с ветром, ее подняли высоко в воздух, в котором она на закате растворилась вместе с летательным устройством. Возможно, ее отнесло за хребет, окружавший плато, и там она благополучно грохнулась на скалы. На одной из них стоял замок. Есть картина. На картине двое - он молод, в пенсне, рядом пастухи, олени.
Мало кто из нас присутствовал на церемонии запуска, нам, в ту пору всецело занятым собственной судьбой, было не до сакральных процедур небесного брачевания и двоичного исчисления. Мы постигали тайны одного-единственного сна и возможности яви в его беспредельных мирах.
Интересно другое, замечает он, когда я пишу это, я не вижу перед собой никакого города, а на прозрачных подкрыльях зрения пробегают тени иных соответствий, иных мест, вещам которых опыт ничем, кроме как легким (окисление... что-то похожее на свежую кислинку сливовой кожицы) удивлением не отзывался.
Тем временем идущим осторожно ступать по камням. Явленное приближение. Морщинистый воздух темнел. Будто рощи. Будто идущему вдалеке открываются сладостно темнеющие рощи, но камни, ступать. Как явленное в неподатливости частностей: никакое определение вещи не возможно в пределах слов, как конечных чисел, и первые и последние (vice versa) всегда могут быть и всегда есть другие. Вечером открыть окно, тетрадь. Не изыскивая доказательств. Открытое окно и запах мокрых тополей. Откуда привкус талого снега. Где произошло смешение, наложение одного запаха на другой, если учесть, что окно закрыто, а на улице созревает чудовищный полдень, рвущий тени с шелковым треском. Единым взмахом поименований, предназначений, следов не свершившихся перелетов, рассудку близились оборванные птицы - им не совпасть в падении к ним оставленных мест, о которых с полной уверенностью высказаться (минуя силки сослагательности): "вот, еще что-то, чего не хватает мысли, что поочередно можно назвать осенью, старым пальто с побитым молью воротником, обманутым литературным героем, стоящим в чулане, надколотой рюмкой, рамой намеренного присутствия, секретом крепчайшего кофе, беспристрастно падающего шелестом геркуланума, горстью кремнезема на исходе августа и руки, северным сиянием в надрезе рассвета, тошнотой, насилием, нищетой, рождественской ночью, всем вышеперечисленным, а также: остерегись улыбаться, будто это что-то значит, ну, вот, и живи на здоровье, чего там", невзирая на то, что любое слово проходит сквозь них, будто бы никогда не было этих мест, бездымно пропадавших при одном взгляде на них.
Много, слишком много. Чего больше: пуха или железа? Железа или золота? Золота или мертвых? Мертвых или никого? Сколько строк бормотания, не оставив следов неравенства себе самим, скользнули по грязным столам, по линиям жизни мимо полых глиняных холмов, зеркальных путей, свернувшегося во сне вина? Таков уговор. Таковы власть, бессилие и бессонница уговора, извлекающие разом с неуемной и призрачной силой прибыль из переливания пустого в порожнее. Заметим, никто о нем не намерен был упоминать. Вопреки тому, что в моем подходе уже и сейчас можно углядеть произвол, - истощение и последующее пожирание представляется актом высшего отточия (...) в когнитивном процессе. "Мне трудно разобраться, но как бы это сказать точнее..."
Скрепя сердце я перебил мать. О чем потом не раз горько сожалел. Изволь, я попытаюсь, я покажу тебе, насколько это несложно. Ответил я. Во-первых уединение, горный воздух, едва ли не тактильное ощущение материальной первобытности мира, его мер, и потом разве трудно допустить, будто система означающих, присущая определенной идеологии, как и любая система, - я поднял прут и в качестве привходящего доказательства стал чертить на песке нечто, напоминающее рыбий скелет, - вполне опирающаяся в собственном воспроизводстве на себя, не способна более довольствоваться ни позитивными, ни отрицательными аргументами, подтверждающими возможность ее перехода на иной уровень сложности, а следовательно и изменение скорости операций с данными. Таким образом, экспансия идеологии, включая и ее ядро - мифологию, являющуюся в действительности единственным ее значением, - утрачивает контроль над опосредующими машинами производства значений, находя себя в чрезвычайно плотном мире односторонней... How can I say it? Оutput and/or input? Тут следует добавить, что структура допусков, упреждений, молниеносных пересчетов отклонений и их компенсации превращается в безукоризненный механизм безумия.
- Но тогда получается какой-то кошмар, - воскликнула мать, не отрывая глаз от моего рисунка.
Разумеется.
- И когда ты вырастешь, ты попытаешься все это рассказать своей... - Она запнулась от неловкости, по-видимому не находя приличествующих данному моменту слов. - Девушке? Невесте? Обещай мне.
Я не счел нужным отвечать. Вниманием снова овладели - гора, черная хвоя сосен, напоминавших тянь-шаньские ели Медео: другие места, другие разговоры. Савойские Альпы, папье маше объемной карты, бредущий пехотинец с ружьем, нет, скажем так, с мешком, нет... ни ружье, ни пуля, ни мешок, ни ножницы, но отроги гор и пленник, удаляющийся от узилища со скоростью одинокого хромого путника. Его лазурные безвоздушные губы повторяют что-то неопределенное, во имя еще более неопределенного. Имя ли это девушки? Тайной идеи? Родной страны? Имя ли палача, который, открыл ему ночью ворота в сад ковров и танцующих кадуцеев? Или же это имя бродячего шарлатана, научившего летать посохи в лабиринтах рощ, сладостно темнеющих на самом краю искусства композиции? Сколько белых роз расцвело там в первый день, а сколько красных взошло на третий? Нет, здесь не кроется никакой загадки. Здесь чистота, абсолютная чистота лазоревых уст. Найди мне имя, попросил я мать.
- Зачем? Ведь у тебя уже есть одно, прекрасное имя, мы все к нему так привыкли! Ах, знал бы ты, сколько дней и ночей провели мы с отцом, отыскивая его для тебя... Мы перебрали десятки, сотни альбомов, газетных вырезок, фотографий, старых журналов, пока не остановились на твоем!
Мне нужно много имен, сказал я тогда на это (осмелился бы я выразиться таким образом сегодня?), мне нужно столько же имен, сколько и смертей, поскольку для того, что я намереваюсь свершить, одной недостаточно.
- И помимо того, откуда вам было знать, что вы даете мне правильное имя, что будущее ему отзовется, станет его настоящим?
- Правильное имя? - рассмеялась мать. - Чему? Тому, чем ты был в ту пору? Посуди сам, тогда то, что являло "тебя" можно было было звать по всякому: ржавчиной, веткой, сквозняком, телефонным звонком, яблоком, натуральным рядом чисел, сном; ты так же был чужд этим словам, как и кровно с ними связан, каждый звук, каждое сочетание их открывало для тебя будущее, в которое ты входил, минуя наступавшее по пятам настоящее. Иногда я подозреваю, что некоторые доживают до смерти и входят в нее ни разу не оглянувшись.
- А что он на это сказал? - спросил о. Лоб.
Диких перелистнул страницу.
- Он... он не сказал. Тут стоит: "подумал".
- И что же он подумал?
- Что он оборачивался только затем, чтобы увидеть, как все исчезает.
- Всё или все? Иногда буква ё многое значит, - сказал о. Лоб.
- Дай же человеку дочитать! - в конце концов не выдержал я. - Невозможно понять, чего ты все время добиваешься.
- "Можно, конечно, понять, будто все происходит наоборот. Чем пристальней взгляд, тем прозрачней вещь, ее время, ее обещание, гримаса ее присутствия. "Прозрение" есть освобождение зрения от оболочек, но явь никогда не бывает столь глубокой, чтобы найти в себе силу стать сном. Все это известно, но всякий раз известно по-иному." Потом опять говорит кто-то другой.
- Но, не будь же таким жадиной!" - с улыбкой восклицает мать. - Войдем лучше в дом, мой мальчик. Уже вечер, видишь, с гор спускается туман, ветер несет запах снегов, луговые звезды сегодня не обещают исцеления, а крики пастухов отдаются в моем сердце обжигающей пустотой утраты и молодости".
Да хватит, ты лучше прочти вот это. Нет-нет, посмотри, как интересно - "управление шерифа и администрация обещают немедленную выплату $20000 тому, кто окажет непосредственное содействие в задержании любого, проявившего насилие по отношению к работникам
Мои дневники (не все теперь мне в них понятно), путевые заметки насчитывают пять тысяч семьсот восемьдесят три страницы. Четыре из них бесповоротно утеряны. Даже лежа подчас в постели со случайной и такой же глупой, как я, женщиной, я развлекаюсь тем, что перебираю воображаемые страницы (тем самым удваивая их существо), спрашивая время от времени: а что может находиться, допустим, на 178? Чаще всего те, кто остается, говорят, что на странице, названной мной, говорится о любви. Я не спорю. Я забыл, что такое спорить. Я живу, не выпуская пера из рук даже во сне, вернее, никогда не засыпая, что само по себе действует на меня, как алкоголь, - последнее, что мой желудок покамест не извергает обратно, о да, так нежно мы таем друг в друге, а дальше облака, образы пернатых, разводы влажной жимолости, шумящих склоненных ветвей, но иногда несколько фотографий, и они никак не складываются в то, что обещают в будущем, а порой он напоминает серый кипящий лед, который кто-то кладет на веки, и никак не проснуться, не выйти из паутинного сада бессонницы, ставшей единственным измерением пространства, за исключением движений руки, ведущей тупое, безразличное, брызжущее орудие по пористой, в рыхлых щепках, бумаге, глине, изъеденному кислотами металлу моих дневников, рассеивающих чернила или какой другой вид пустоты, отличающийся по цвету от страницы, камня или кожи, на которой в равномерном освещении рассвета можно прочесть вытатуированное пожелание никогда не отказываться от сказанного, или когда оно вовсе ничем не отличается ни от чего - именно оттуда берут свое начало корни сущего (но я не успел записать, какая досада, что это относится только к пределам неопределенных времен, где и происходят безбедные процессы), - так как главным считаю то, чтобы не отстать зрением от руки, чьим предназначением является точно рассчитанное опережение будущего события, сведение его к случившемуся, чего скрывать, этот незатейливый трюк мне удается в течение более четверти века. Ничего особенного. Проще пареной репы, так, салонный пустяк. Вероятно мне, как теперь кажется и разумеется безо всяких на то оснований, в своей работе над дневниками (хотя, едва ли кому-нибудь это покажется непосредственной работой, в общепринятом значении этого слова; пожелай кто ознакомиться с теми или иными описаниями переходов через перевалы, зловещих криков предрассветных птиц на берегах тускло стоящих в тумане рек, обреченных мятежей в никому не ведомых странах, горящих плавней, исследований человеческого перводвижителя, он не обнаружит ни одной страницы, повествующей об этом и о многом другом) хотелось... как бы это точнее выразиться? - "опередить" другого, других в их завоевании и присвоении слов изначально, хотя само по себе представление "изначальности" откровенно сомнительно и существует в прозрачном качестве аллегорической фигуры. Не уверен, что мне довелось внятно рассказать об отступлении и его стратегиях. В свое время они были великолепны. Предвосхищая любое возможное намерение и следуя логике установленного порядка, я должен был стремиться стать всеми одновременно, затем чтобы далее, оставив всех "в себе", всех ставших "мною" (человек-западня), устранить себя (иногда я помышлял об элементарном физическом самоустранении - кто же в молодости не грезил всеми женщинами мира, победами в абсолютном весе, присутствием на собственных похоронах и тому подобным...), либо уничтожить пределы собственного представления о себе и, таким образом, того, что нескончаемо прибывало в различение, образующее некоего "меня". Мысль о том, что ни время (в каком бы то ни было его понимании), ни пространство не играют существенной роли на весах взаимопроявления, привносила порой ноту покоя. Что по тем временам (как и в дальнейшем) было отнюдь не маловажно. Отсутствие денег. Война. Холод. Делать нечего. С этим надо кончать. Есть письма ( я упоминаю у них в дневнике, не приводя, впрочем их целиком), которые мне до сих пор не удается прочесть. Многое в них продиктовано чувством справедливости. Главное, что покинутость в этих случаях становится необходимым состоянием для изучения физиологической особенности разложения. Распад отражения в твоем зрачке понуждал меня еще более пристально вглядываться в твое лицо, в его нарастающую пустоту, в лицо, которым я полон сегодня, поскольку больше его не вижу, и знания о котором меня ни к чему не обязывает. Простота инверсии также очаровывала. Можно представить, скажем, обратный процесс, не расширение, но - такое же теоретически абсолютное уплотнение, сжатие, при котором в нигде располагается есть. Расширение и сжатие.
Писание дневников в сущности было тем и другим одновременно.
Я искал твой след и в том, что еще не случилось... и, наверное, никогда не случится. Это первое. Где-то поодаль находится второе. Третье всегда не концептуально. Идея третьего не может быть артикулирована. Его присутствие описывается достаточно безыскусно - оно просто есть, когда надо. Всегда остается два изначальных значения. Угадай, написал в начале страницы Диких. Его пальцы таяли на клавиатуре по мере того, как он уходил по Кирпичному переулку.
|