Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО
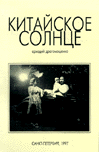
|
[Роман]. СПб.: Митин журнал, Borey Art Center, 1997. ISBN 5-7187-0222-5 224 с. |
|
"Я на минуту" - сказал, втискиваясь в дверь боком, о. Лоб. - "Слыхал? Они сравнили убийство г-на Г. с убийством Марата! Ни много, ни мало! Прямо в подъезде из АК. О Боже, я растекаюсь куском сливочного масла на сковороде... надеюсь, ты внял моему совету и поместил соответствующее примечание, в котором должен был указать на порочность, и того страшней - наивность подобного подхода! Невыносимая жара, просто невыносимая, - кто ответит мне, как жить в такую погоду?" "Я спрашиваю, где мы живем? - внезапно задался вопросом о. Лоб. И без промедления посторонним голосом себе же ответил: "Страна всезнаек, действительно... overeducated, что ли..." Зазвонил телефон. Звонок меня перехитрил, напомнил, что пора варить кофе. "Меня одолевают раздумья", - продолжил о. Лоб. - "Не уверен... но меня полнит явная неуверенность в будущем. Если так пойдет дальше, придется будить Карла. Не оставлять же его здесь!?" - "Где это, по-твоему, здесь?" - спросил я машинально, совсем не думая о Карле, существующем в двух плоских жизнях одновременно, будто ногтем прорисованном на морозном стекле троллейбуса, и не предпринимавшего даже малейших попыток связать их в одну линию, хотя бы для того, чтобы быть понятым на протяжении одного часа в день. Как не думал о том, почему при слове карл в воображении возникает образ фрагмента остановленной спекшейся массы, рельефного пятна, шлака, что не соответствовало моему подлинному к нему отношению, как к скромному объекту предложения. "В таком случае, - сказал о. Лоб, - я бы прибегнул к старомодному теперь термину "смысло-образ", - в качестве рабочего понятия он еще долго будет в ходу". Наверное, поэтому мне стала претить настойчивость мысли, требующей во что бы то ни стало разрешения (скажем: распутывания, т.е. освобождения от пут частного, если следовать привычному порыву этимологического дознания стертого утверждения) определенного, изначально данного темного места, или интенционального "пятна", а проще - проблемы либо задачи, решение которой по обыкновению должно как бы стать очередной стадией дальнейшего продвижения в узнавании, которому, помимо прочего, надлежит, прибегнем к утешающей образности, сшивать разрозненные лоскуты образующихся еще-не-ставших-сведений в целое опыта. По телефону сообщили то, что через несколько мгновений я начисто забыл. Первые помнят то, что вторые понимают и третьи хотят, вторые понимают то, что первые помнят, а третьи хотят, третьи же хотят того, что помнят первые и понимают вторые. Где-то здесь. Остался кофе и продолжавшие лежать передо мной страницы, в которых необходимо было найти что-нибудь стоящее внимания. Разумеется, не может быть и речи, я в это верю. Но как понимать, почему при прочтении слова "диких" мое воображение быстро и плавно "ткало образ" персоны, действующего лица, человека, одновременно сгущая также условную среду его обитания во что-то понятное и знакомое. Стволы буков в дождь наливались бархатной тушью, наделяя небо изысканной смутой плохо переведенной книги, чтение которой иногда бывает приправлено пресной горечью весны. - Дело не в поздравлениях, - однажды сказала Вера, кутаясь в шаль. -Тогда действительно расцвели вишни? - с подозрением в голосе спросил о. Лоб. - Вот это я и имел в виду, - шепнул о. Лоб в кафе, после того, как незнакомый человек с приветливой улыбкой осведомился, когда будут готовы его "заметки". На подсевшем к нашему столу хорошо сидел легкий светлый костюм. Галстук производил также приятное впечатленние. Очевидно было, что галстук в гардеробе не одинок. Слегка воспаленные глаза говорили о том, что их обладатель либо проводит дни на пляже, либо начинает наливаться с утра. Я склонился к последнему, поскольку не смог отыскать на лице никаких следов загара. Их не было, равно как и следов какой бы то ни было заинтересованности, хотя таковая прозвучала в голосе. Однако мысль, а, возможно, желание мысли в последнее время отказывается предстоять (правильнее было бы сказать - "создавать") ни загадкам, ни всевозможным сокрытостям (впадины? полости? поры?), образующим реальное, и т.п. Истории снова ринулись на меня со всех сторон, одичавшие вполне, сравнимые разве лишь с ордами варваров (сонмами червей, - из другого источника), идущими на прорыв ветхих границ империи, пребывающей в заносчивом неведении, - еще вчера она успешно управляла ходом светил и сочетанием тонов благоденствия. Кора, остывание. Только в пятьдесят лет я окончательно стал писать именно так, как мне того хотелось всю жизнь. В чем заключаются особенности такого письма? Мне хочется, чтобы читая это, ты сошла с ума. Так будет лучше для всех. Кроме того, мне хочется найти тебя, я еще помню твое изображение на серебряной пластине рассвета, разомкнувшей мой мозг слепым разрядом бессонницы. Вероятно, в данный момент я недостаточно задумчив, тем не менее, ей, этой мысли, достаточно ее самой - праздной, бесцельной, не взыскующей подтверждений не только в собственном существовании, но и в наличии меня (о, я все еще продолжаю полагать, будто начало ее лежит во мне), - ленивая, отрешенная жажды постижения, схватывания, в довершение беструдно отторгнувшая "я" как факт чрезмерно преисполненный фиктивными возможностями, она безо всякого усилия и вожделения властвовать во мгновении вхождения в неизвестное совлекает, опуская из фокуса своего внимания то, что я бы, пользуясь неразборчивостью в средствах как пишущего, так и читающего, назвал бы "различным". Амбивалентность "постоянства/изменения" настолько тривиальна в неустанном обращении, что о ней забывают в нескончаемых полемиках, посвященных проблеме присутствия человека в среде им создающейся и трансформирующей его же неустанно. Здесь становится очевидной необходимость прямой речи и признания в любви. Я знаю, что тебе нужно, - ты хочешь, чтобы я сошла с ума! Но что в таком случае нам назвать любовью? Не говорил ли я, что отношусь к тебе довольно странно? Не слышу. Произнеси разборчивей, пожалуйста. А поэтому не вижу, почему бы слух не принять как основополагающее условие в проблеме передачи. Наверное, все это из-за тумана... помехи. Интересно, слышишь ли ты меня? Какая из неисчислимых дробей времени и пространства, нами населенных, наиболее открыта этому состоянию, - но состояние ли то, о чем мы говорим с тобой, как о любви? находится ли оно вне, ожидая своего срока или же, словно шелк с кокона сматывается с нас, сматывая на нет заодно нас самих? Кстати, вот и воздушные змеи скрылись из вида, - не в том, разумеется, дело, в конце концов я не обязан всю жизнь с благоговением наблюдать за явлениями природы. Положа ей голову на колени. Нет? Не знаю. Говорить об "изменениях" и "постоянном" в какой-то момент означает говорить об одном и том же, или же о двух перспективах в которых это "одно-и-то-же" вступает в игру сознания, в бесчисленных актах неуследимо ткущего постоянную реальность в намерении эту реальность постичь. В таком случае мне остается напомнить: последний раз мое признание случилось накануне твоего отъезда, хотя, хотелось бы напомнить, именно подобного рода подробности всегда были самым слабым местом, и порой мне неимоверно трудно восстановить бывшее, даже в тех случаях, когда оно необходимо для реставрации настоящего, которое мы либо опережаем в своих намерениях, либо за которым не успеваем и от которого нас относит, разрывая все пунктуационные привязанности, уносит и дальше в бормотание, где мнятся истоки наших времен, поскольку я не совсем убежден, что сижу в эту минуту за столом, или же перед монитором с неопределенным выражением лица, тщась вычитать из смывающих друг друга строк причины нежелания (банальное определение его как особого желания неминуемо) доверять достоверности буквально происходящего, и как бы то ни было, согласись, мы провели тогда прелестные день и ночь в твоем (уже невообразимо далеком) доме, с едва ли не детской страстью наделив их статусом начала, к чьей бесплотной черте все так же прибивает потоком жалкие остатки чего-то, чему не отыскать даже имени: крики, шепоты, сухие семена, смех, пионы, теплая на ощупь доска забора, платан, капля, обреченная не свершающемуся падению сквозь солнечную рябь, не достигающая дна капля света или влаги. В последующей моей жизни этого становилось меньше, вещи как бы убывали, они истончались, сохраняя очертания, имена, но напоминали, скорее, нечто подобное кенотафам. Я иногда вспоминал Египет, но совсем уже по другому поводу. Но двор, который можно было наблюдать из кухни, как всегда привел меня в безусловный восторг идеальной формой запаздывающего в теснине опустошенности звука, полным безразличием ко всему, не исключая солнечный свет, который, изредка попадая в скобки его необязательных примечаний, ничто не менял в очертаниях представавшего взору и тончайших его оттенках безвидности, однако в тот день ты принесла охапку жасмина и долго возилась, пытаясь втиснуть цветы в узкую вазу зеленого стекла. Я смотрел, как двигаются твои худые лопатки под горячим шелком платья; странное различие в температуре ткани и твоей кожи возвращало к неотступной мысли, что вероятно на том свете эти прекрасные льющиеся платья, чьи пуговицы так беструдно расстегиваются, станут единственным достоверным воспоминанием, - не сказать более, раздумывая о потерях, которые несет значимость, будучи вовлеченной в процедуру сравнения, полагая, что высказывание само по себе есть процесс изматывающего, нескончаемого сравнения, игры уравнивания на сцене представления, однако трудно удержаться (дыша на пальцы, пишет он/она/оно), чтобы вновь не откликнуться его соблазну в попытке представить, как я рассказываю тебе о том, что несколькими строками выше пытался поспешно выразить - думалось (когда?), что тебе понравится уподобление моего (или же, если угодно, состояния любого другого) привыканию к пределам комнаты, в которой ты живешь, т.е. к ее чистейшим пределам, установленным переделом множества вещей, предметов, пересечением их резонансов, перспективами и пр., каждый из которых, может быть, наполнен циркуляцией единственно важного и верного для тебя значения, любое из которых обладает чем-то, что при тех или иных обстоятельствах в состоянии возбудить память, фантазии, в неуязвимых пропорциях смешивающее будущее с не бывшим, и которое в тот же момент не преминет протянуть связи к другому предмету, существующему, либо исчезнувшему бесповоротно, - словом, соткать паутину причастности всему подряд (но каким образом и с какой целью устанавливаются ряды...), а другими словами, окружающему, то есть мне, хотелось сказать тогда, на кухне, глядя, как ты возишься с цветами, а за тобой стекло, улавливающее восхищающий меня двор, лучащийся этим особенным перламутрово-серым петербургским свечением, испепеляющим какое бы то ни было намерение продлить свет в понимании/описании того, что "место" моего непрестанно ускользающего нахождения создается вот такими незатейливыми вещами, их соотношениями, тогда как они сами по прошествии времени становятся проницаемы для взгляда, тела, ума и превращаются в невидимое, волнообразное не-событие пламени, существуя в своем парящем отсутствии гораздо более убедительно и явственно, нежели в первые мгновения встречи с ними, - но кто помнит, как они появлялись, занимали свое пространство, порождая эфирное дуновение собственной насущности - либо своего вторжения (удивительно, как часто это восхищало, приносило действительную радость), определяя в своем постоянном отсутствии границы телесности, ее свободы... Какой-то весной, в первые сумерки на 5-й Авеню в районе 46 улицы, закинув ненароком голову, я увидел, как на уровне пятидесятого этажа трепещет, стоя в воздухе, клок газеты, грозно и неотвратимо-медленно восходя среди стен и небес. Существование определяется собственной косвенностью "не-присутствия". Так понятней. Намного понятней. Это невозможно читать. В той же степени это невозможно и писать. Однажды на улице, после непродолжительной паузы сказал он, какая-то незнакомая девушка обратилась ко мне с вопросом: "а вы пишете?" - имея в виду, должно быть, пишу ли я в данный момент, то есть "работаю ли я над какой-то вещью", как было принято некогда говорить. Я посмотрел на нее как на идиотку, после чего, конечно же, почувствовал сильную неловкость. Среди идентичных "невозможно" находится единственная возможность, - моя. Как таковая, без каких-либо дополнений, определений. Вещи, если их возвращает огонь, различными способами свидетельствуют, что они существуют ни для чего. В этом заключается главный, первый и окончательный урок. Однако это назидание записано скверными чернилами. Что напоминают вам лежащие перед глазами пятна? Дом? Облако в виде рояля? Деньги? Детские сексуальные переживания? Статуэтку, изображающую Лао Цзы на спине буйвола, отбывающего в страны заката? Половые органы бабочек? Шепот Скарданелли (имя, бросившее вызов многим гимническим строфам), удваивающий бесконечное "да", и в этом удвоении исчезающий в материнской нежности "нет"? Кто там стоит у дерева? Стоит ли нам доверять свободе? Все размыто, и дороги, и склоны холмов, дождь следует долгу не прерывать сообщения ни при каких условиях - шелковый верх зонта темнеет. Темнеет день. Поэтому, гася окурок в непоправимо треснувшей чашке с остатками шоколада, можно (приподнявшись, протянув уже руку к книгам на столе, уже не здесь, а в измороси, на побережье, в коридорах нетрудной ходьбы, но еще тут, еще не окончательно выпрямившись, еще одной рукой сгребая мелочь со стола, еще) сказать - "старость антихронологична". Так история изменяет свою природу в некой, без конца становящейся, одновременности. Помнится, после, сидя в баре на Blicker St., мы рассуждали о тягостности привыкания к новым домам, где вещи очевидны, грубы, определены материей своего существа и предназначением, но, главное, расположением, поэтому, прежде чем взять чашку, вначале ее необходимо найти где-то на карте мысленного пейзажа, затем отыскать аналог в реальном пространстве, и лишь только после того с недоверием взять ее в руки, ощущая непонятное, слегка неприятное удивление от соприкосновения с предчувствием формы. В Encinitas мне приснились похороны отца. Во сне со всей немыслимо неуместной телесной осязаемостью утверждалось, что дескать эти - последние. Окончательные. Переминаясь на месте и сутулясь от пронизывающего ветра и кашля, я равнодушно вспоминал, что в моей жизни их было предостаточно. Некоторые годы проходили вообще без похорон, а в иные случалось, что они происходили почти каждое утро. Мы поднимались чем свет. Мать надевала платье, приуготовленное накануне именно для этого случая, широкополую шляпу из "рисовой" соломы с приколотым сбоку к тулье букетиком бархатных анютиных глаз, и мы рука об руку шли через весь город к одному из кладбищ. Теперь я понимаю, какие чувства мы вызывали у прохожих, например, в середине января. Но зато лето вознаграждало нас сторицей, мы бесследно терялись в утренней пестрой толпе. Я стоял перед ямой, вырытой ковшом экскаватора поперек (это как настораживало, так и раздражало какой-то непроницаемой, злобной глупостью) грейдерного шоссе, перед собой же видел спины людей, в свой черед напряженно вглядывавшихся куда-то вперед, то есть перед собой. Как же так, задыхаясь от негодования, думал я - до каких пор, сколько раз это будет происходить? Каковы гарантии того, что эти похороны последние? Кто даст мне эти гарантии? Нет, не то чтобы это было чересчур утомительно, дело в другом, в присутствии откровенного привкуса какой-то безысходной халтуры. Из разворачивающегося повествования сна постепенно становилось ясным, что его хоронят чуть ли не сто семнадцатый раз. На этот раз стояла сумрачная сухая, слегка морозная погода. В тот же момент, когда число себя утвердило в образе соломенного жгута (которым обвязывают ржаные снопы), я ощутил прикосновение серого льда к векам. Кто поручится, что этот раз последний, услышал я голос, могущий принадлежать по здравому рассуждению единственно мне. Чувствуя в груди недостаточность каждого вздоха, не сдвигаясь ни на дюйм, я произнес, якобы обращаясь к отцу, короткую, задолго до того подготовленную речь, содержание которой несколько устарело к моменту ее произнесения, но слов своих не расслышал из-за налетевших порывов жгучего ветра, однако по собственным губам успел прочесть то, как слова поштучно и с неизъяснимым хрустом покидали рот, где будто от запредельного холода крошились зубы. Сыпало изморозью. Сквозь иней, повисший в воздухе, вместо привычных российских ворон на сухих сучьях дерева я различил несколько иссиня-черных воронов, вокруг которых в неподвижных завихрениях расцветал покуда еще беспомощный холод. Наверное, посреди металлического, нескончаемого свечения дня, упрятанного в маслянистые складки сна, было нестерпимо душно. Возвращаясь к сказанному выше, хочется просто отметить, что ныне вещи стали проницаемы вдвойне - я нередко задерживаюсь перед тем или иным предметом, испытывая иной раз мало поддающееся описанию недоумение, иногда страх, поскольку исчезает их привычное сопротивление, как бы относившее на протяжении жизни от того, что, как подсказывало не утихающее подозрение, располагалось за стеной. Но и там, если суждено рано или поздно туда попасть, - как там удастся нам друг друга узнать? Где ни подобий, ни различий. А недавно я прочел несколько страниц из собственной книги, изданной, в общем-то, не так давно - и точно так же ничего не понял из того, что возникало перед глазами. По-видимому они желали иного. По-видимому они желали другого (повторения?). Никак нельзя было понять, чего именно. В обрывках их разговоров, обращенных неясным образом ко мне, казалось, иногда можно было угадать какой-то смысл и, действительно, наступали минуты, когда я уже был близок к тому, чтобы целиком с ними согласиться и разделить их ликование или... может быть, печаль (я ведь могу ошибаться), но, спустя несколько времени, я снова соскальзывал в омут невразумительности происходящего. Терпение их было безгранично. Солнце восходит, отчетливо повторял кто-нибудь из них. Люди заслуживают лучшей участи, подхватывал другой. Привлекательная женщина со смуглым лицом, (аметистовое кольцо, худые пальцы), сидевшая поодаль у двери, чаще всех обращалась к мысли о предназначении человека, об избранности определенного народа, о его сокровенной судьбе. Повторяю, мне хотелось с ними согласиться во всем, - разве кому-то известно, как мне необходимо согласие, пусть даже и такое, поспешное, - хотя при этом я недоумевал, почему человек заслуживает лучшей участи, почему должен быть избран - и, главное, кем? - какой-то народ, тогда как "сокровенная судьба" его вызывала в воображении странный образ незнакомого огромного здания с выбитыми окнами, черное тесто неподвижной толпы внизу и холодную звезду, дрожащую зеленой иглой в тягучем воздухе умиления и подлой ненависти. Но они меня будто переставали замечать, когда я, следуя им, тоже пытался что-то рассказать, например, о жасмине, о затаившемся в кустарнике дожде, о дворе, разделенном дощатым забором на две половины, о глубокой черной луне колодца, благоухавшей свежестью ночных цветов и петунии. Они кивали головами, делали вид, будто это для них имеет несомненное значение, но немного погодя снова перебивали меня нелепыми вопросами, хотя я, отчасти из-за духа противоречия, продолжал свое. Я сказал: наконец ты разобралась с цветами. Позолота верхней каймы на вазе кое-где отстала, темно шелушилась. На твоем мизинце угасал крохотный лепесток не то стекла, не то чешуи, отражавший прохладно-запавшее небо Петербурга, дом напротив, глядящийся в воды Гебра, простор улицы, тончайше вписанный в вечернее вещное бормотание, порождаемое лишь вот таким образом: в выпуклом зеркале меры сравнения, за пологом которого цвели розы дыма и несколько человек глухими голосами совещались о необходимости расследования случая гибели колесничего. Тебе нравилось, раздвинув ноги, уперев их на радиатор отопления, сидеть на подоконнике, лицом в комнату, и тебе хотелось, чтобы я обнял тебя, и чтобы (если кому доведется) кто-нибудь видел твою худую голую спину, позвонки и руки, обнимающие тебя. Ты говорила, что вот, они сидят там, далеко отсюда, в самых концах коридоров волшебных стекол, в комнатах, где, наверное, гуляет, натыкаясь на углы, ветер, и пьют вино, предаются завораживающим исчисленьям (довольно удачный пример того, как действует искажающая оптика), а может быть, оплакивают смерть попавшего под колеса щегла, или просто тупо сидят, потому что все закончено и в том числе день, и тем временем замечают меня, сидящую на подоконнике четвертого этажа, причем внизу не умолкает улица, с Литейного заворачивает очередной поток машин, и поначалу они думают, что это я сама себя обнимаю, и только спустя несколько минут кто-то из них нарушит молчание и скажет, смотрите, мол, какие длинные у нее руки, таких рук не бывает, так себя ни за что не обнять..., а потом, приглядевшись внимательней, раздевая меня дальше (несмотря на то, что на мне давно ничего нет; ты давно все уже снял, помнишь? -когда говорил о шелковых платьях...), они поймут, что за моей спиной конечно же совсем не мои руки, в то время как наши едва уловимые движения (вот почему я просила тебя быть сдержанней), их особенный ненавязчивый ритм (а это можешь вычеркнуть) свидетельствуют совсем о другом, нежели ее, то есть мое желание привлечь к себе внимание. Логика таких совлечений непредсказуема, порой не лишена изящества и потому дарит наслаждением. Каково бы ни было сопряжение - оно в настоящий момент всегда безусловно истинно в той же мере, как и ложно. Снизу доносится запах жасмина. Многие погибли, но многим удалось скрыться в горах или само-описаниях.
Сквозняки определяли направление прохлады. Речь состояла исключительно из предлогов. Несколько пунктов. В одном из них - мы прекрасны. В другом - орлы покрываются льдом и обмениваются с воздухом протравленными насквозь монетами тяжести. Там же, где мы прекрасны, находится несколько книг. Их содержание общеизвестно, но перерассказать его никому не под силу. Ты косо шла наперекор закатной тени у Казанского собора, а далее, как из письма: она перешла Казанскую улицу, прошла несколько шагов в толпе троллейбусной остановки, была ею оттеснена к стене дома, где когда-то находился кавказский ресторан, а в это время толпу вяло развернуло к подходившему троллейбусу, тогда как она, приостановясь переждать судорогу хаотического движения, по инерции сделала еще один шаг, оказавшись напротив телефонной будки (тогда такие стояли повсюду), железная дверь которой распахнулась бесшумно, словно с отклеенным звуком, и точно тень из аквариума, скользящая вовне к с такой же медлительностью (но в силу совершенно других причин) захлопывающейся троллейбусной двери; оставалась немного, чтобы окончательно ничего не видеть, но ты уже плыла по течению мусорного суховея, в русле безводного плоского плато, камень которого раскален до прозрачности слюды, и кровь на котором распадалась на вскипающие молекулы жажды, превращающей "всегда" в "никогда", открывая глазам области вечного ветра, надорванного по краям гула и отсутствия деталей. Сужение сферы исследования. "Мне кажется, я даже видела это в том сне, хотя во времени здесь явное несовпадение, во всяком случае, не должно совпадать. Но кажется, когда я почувствовала змеиный укус, я сразу стала очень многое видеть, одновременно, я например видела свою руку и тебя там, в том месте, которое ты только что описал: безводные реки, какие-то русла, пересекающие красные плоскогорья, черные хвойные леса и ветер, пеленавший снежной стужей, необычной в краях, в которых я оказалась не по своей воле, казавшейся ужасающим зноем - виток за витком - словно вынимая из слов и тела. Мне казалось, я вижу в толпе тебя; если не ошибаюсь, и твой голос не выделялся из хора, ты стоял, как в детстве стоят перед фотографом (капли пота, стекавшие по лицу, я помню очень хорошо, будто вообще как бы и не я, но видеокамера вместо меня) и смотрел на стену того самого дома, в котором однажды мы побывали каким-то утром. Но как называется то место? Где это случилось? Какое имя носит река, по которой плыть твоей голове? Откуда мне известно про реку? Где ты отстал? Где все так быстро переменилось? Что будет отражаться в твоих открытых глазах? Что нам будет за это?Почему все так быстро ушло?" - Потому что мы жили быстрее, чем умирали другие, - говорит о. Лоб. - Ничего не понимаю, - раздосадованно говорит Турецкий. - Хорошо. Я несколько раз прочел описание комнаты. Вот, к примеру, кто эта девушка или женщина, о которой идет речь? Более того, вымышленный ли она персонаж или у нее имеется какой-нибудь прототип? - Что-то я не припомню такого. - Ну как же, не помните! Он пишет о том, как смотрит во двор, и в нем, во дворе, никого нет, потому что, по-видимому, из города все, как пишет он, уехали на дачу... интересно, это что традиция такая писать про дачи? Ладно, оставим дачи в покое; ну вот, он смотрит во двор, а в комнате его поджидает, наверное, его девушка с цветами. Вот о ней я как раз и спрашиваю: кто она, и почему в других местах он все время к ней возвращается, хотя, честно говоря, а думаю, что это на деле не одна и та же девушка. Может быть, это его жена, как вы думаете? - Нет, почему же непременно жена. Так... просто женщина и все, литературный персонаж. Чего вы собственно добиваетесь от меня? - Хотите откровенно? - Наши отношения другого не предполагают. - Тогда слушайте. Во-первых, я не хочу, чтобы он редактировал мой роман, и я вам очень признателен, если бы не вы, я бы и по сей день оставался в неведении... мне что важно? Мне важно, чтобы редактор в некоторой мере понимал меня. Так? - Резонно. - И что отсюда вытекает? - На мой взгляд, отсюда ничего не вытекает, - сказал о. Лоб. Его лицо, успокоившееся в незапамятные времена, теперь было чисто и совершенно безупречно: вне возраста и продолжения, тогда как в очках отражалось плывущее раскрытое окно, в котором отражалось темно-золотое небо и "его лицо, успокоившееся в незапямятные времена, теперь было чисто в том смысле, что в нем ничего не отражалось". Тонкорукое смуглое дерево, дикий тростник растет из глаз моего приятеля, которому ничего не остается кроме как избегать скользящих по стеклам очков беспокойных бликов: прикрываясь рукой, устраняясь, весь - неуязвимость, стертость, старость и все прочее, но только не то, что приходит на ум. В эту пору лета вечера в Петербурге особенно холодны. Атлантика меняет вектор и меру дыхания. Острова в дельте чернеют, резко. Иногда к ночи падает снег. Я сообщаю ему об этом. Я напоминаю о тех годах, когда в июне шел снег и подолгу не таял на остывающих тополях. От первого лица. - Что ж, у других растет трава, - говорит он, подавляя зевоту. - Холодно-жарко... А толку? Ах, мой друг, не торопи вечер! Не выкурить ли нам по сигарете? Не выпить ли вина перед тем, как выкурить по сигарете? И не отправиться ли к барышням после того, как предпримем то и другое? - На некоторое время он замолкает. Потом добавляет: - Мне кажется, что я выставлен на съедение будущему, т.е. на посмешище. Мое прошлое, - говорит он, - теперь не больше, чем переводная картинка с дровосеками, Котом в сапогах, мальчиком-с-пальчик, картинка, которую, послюнив, можно прилепить куда угодно. Порочно думать, будто много лет назад я не представлял себя именно так, сидящим где-то на краю хуй знает чего, знающим вполне, как я буду кому-то повествовать о том, что, мол, в некоем прошлом я уже знал, что его никогда не будет, никогда не произойдет. Но в старости даже самые упрямые пытаются всучить обратно вещам их имена, как будто это имеет значение, будто вещи или что другое испытывают в них нужду, как если бы они действительно могли вернуть вещам их имена, а не имена - именам, etc., или же, как если бы существовала некая инстанция, ведущая непрерывный учет подобных ссуд, так вот, эта инстанция и кажется тем самым перстом укоряющим, который вольно принимать за все, что угодно. А ведь логика очень проста и понятна. Банальна. Они не довольствуются тем, что имена просто принадлежат им, а ведь и в самом деле они как бы вступили во владение ими с самого начала, наследовали это право. Для них важно увериться в том, что все это создано именно для того, чтобы принадлежать им. Только один Карл понимал, какая все это несусветная глупость! Никто никому ничего не должен. Никаких имен. Смерть - единственная вероятность окончательно погрузиться в отношения чистых, не становящихся ничем, возможностей стать посмешищем. А еще пальцы, как из теплого пластилина... Доводилось ли тебе здороваться с таким человеком за руку? Отвратительно. В условно-насекомом стрекотании камера крупно выхватывает капли пота на изборожденном морщинами лице. Кинотеатр находился в перестроенном длинном сарае для сельскохозяйственных машин. Он обрастал пристройками, а в пору, когда я перешел в седьмой класс, там уже торговали газированной водой с сиропом. В черно-белых фильмах больше цвета, чем в цветных. Играть "под камушек" означало играть на деньги. Снять фильм о городе, о дверях, оконных рамах, ржавом железе непонятного предназначения - затея благодарная. Существуют крыши, поэты, ногти. Воспоминания о войне чередовались с рассуждениями о возможных переменах. Эпичность и гипнотичность первых и мелкая беспомощность последних. У историй отсутствует первоисточник. Разные вещи, множество сказок. Это могло не случаться. Как первое условие каждого повествованния. Но все же произошло. Когда мы говорим о чем-то, означает ли это, что мы об этом чем-то "думаем". То есть, означает ли в данном случае говорение ряд рутинных умственных операций, удерживающих в одном горизонте чувственный образ, значения, смыслы, связи смыслов, включая еще не схватываемые (не проявленные) структуры их логики дальнейшей трансформации в иное, позволяющей функциям разрозненного вступать в призрачные, но от того не менее убедительные отношения частного и целого. Наверное, нет, не решись я тогда в ливень прийти к тебе, все сложилось бы по другому. Но удивляет в этом другое, я прекрасно помню как я выходила из дома, как ехала в пустом трамвае - помнишь те дожди, они начинались в самый разгар июля, ничто никогда их не предвещало, и в тот раз точно так же, с утра необыкновенно яркое и жаркое небо, ты как раз вернулся из Крыма, а я в самом деле хотела тебя увидеть, думала, загорел, наверное, как черт, а тут люди с ума сходят по конторам, - но, прости, совсем забыла, напрочь из головы вылетело, как вышла, каким тебя увидела, - иногда мне кажется, что я тебя просто не застала, или... не доехала, решила вернуться, может быть, что-то о тебе вспомнила и это меня повернуло назад, знаешь, как бывает... кажется, мы тогда часто ссорились... нет, не ссорились, наверное, не соглашались в чем-то, а в чем - совершенно не помню. Иначе стали бы мы возвращаться к "определенным темам" несчетное число раз, принимаясь рано или поздно осознавать (и то только как-то мельком, косвенно, будто бы не желая задерживаться мыслью на том, что ее должно позднее отвергнуть), что каждое такое повторение принципиально перечеркивает, отрицает предшествующее ему такое же возвращение/повторение. Из чего следует (согласен, абсолютно бессмысленный риторический оборот!), что мне не то чтобы нужно другое в высказывании, но по какой-то неотчетливо выражающей себя причине необходимо обессмысливание говоримого, сведение его в конечном счете к не артикулируемому остатку как к предвосхищению, бормотанию, нечленораздельному подземному гулу (приложи ухо, услышишь), - если к тому же верить, что "в языке все давным-давно свершено". Тогда возникает: "да, я понимаю." Что понимаю? Или же такое утверждение есть обыкновенная фигура воздержания, предполагающая иное значение: "оставь меня, не докучай мне тем, что меня никоим образом не касается"? Действительно, что понимаю? То, что для объяснения "понятого" нужно опять возвращаться к высказыванию того, что стало понятным, а потому не взыскующим никакого повторения? Да, ты уже говорил об этом. О чем это я говорил! Когда? В своем ли ты уме? Я говорил о другом. О том, как однажды утром, - иногда (впрочем, все реже, реже и реже...) случаются такие осенние утра, когда окружающее необъяснимым образом предстает в совсем иных пропорциях, объемах, в ином цвете, в другого рода длительностях. Туман окутывает полу-облетевшие липы, косая стена солнечного октябрьского солнца очевидна вполне, а с северо-запада заходит охватившая полнеба клубящаяся исполинская туча, будто некие небесные хребты двинулись на город, - косой гребень солнца, листья, источающие свет нежнейшего растительного распада, пропитанный терпкой камфарой воздух, отчего поднимается ощущение, что он заткан ледяными прядями инея: назовем это "здесь". |
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
Серия "Митиного журнала" | Аркадий Драгомощенко |
| Copyright © 1997 Драгомощенко Аркадий Трофимович Публикация в Интернете © 1997 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |