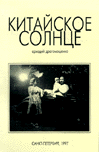"Ты больше не сказала ни слова". Из какого романса. Я стал тебя терять. Я убивал тебя медленно и с неописуемым удовольствием. Что является поводом беспричинного беспокойства? Обязательные кусты бересклета. Иногда я это делал при свидетелях. Они оставались немы в обобществленном зрении, что никогда не становилось чистым наслаждением. После мне необыкновенно захотелось написать письмо И., я порылся в ящике, чтобы освежить память - выше говорилось о ее записке - но ничего не нашел. У нас никто никогда не убирает. Скоро мы будем погребены под грудами пустых коробок от кофе, пивных банок, бумаг и прочего мусора. Мусор неизбежен, как хорошая живопись. Ответить на вопрос, из чего состоит мусор, намного труднее вопроса о материи памяти или какая партия победит на выборах.
Чаще всего происходящее со мной оставалось непроницаемыми сцеплениями тех или иных совпадений, где вряд ли и более пытливый ум смог бы углядеть закономерность. Очень рано, насколько помнится, лет в 12 у меня в голове сложился четкий вывод, - я достаточно внятно помню тот момент. Родители решили вывезти меня в Москву. Мальчик обязан был взглянуть на прекрасное сердце родины, на худой конец приблизить к нему ухо, услышать ритм великой страны, довольно ему было прохлаждаться со всякими уличными подонками, голубями, драками, девками, проплывая по пляжам и стогнам города, отражаясь в дряхлых водах провинциального житья-бытья. Детство - та же провинция. Город напоминал настольную игру, правила которой заключались в само-определении. Все остальное - возвращение, траектория которого, меж тем, простирается гораздо далее точки воображаемого совпадения.
Поездка была чем-то вроде подарка на каникулы, несмотря на то, что учебная четверть была окончена куда как плохо, к тому же в последнее время на педагогическом совете не раз поднимался вопрос о моем исключении из школы за многое, в том числе и за многочисленные стычки, в которые мне приходилось ввязываться по различным причинам, испытывая отвращение к себе из-за страха, который они у меня вызывали. С морды у меня вечно текла кровища, - узел проволочной шины, стягивавшей два передних зуба, торчал вовне, и при малейшей ошибке, малейшем опоздании, то есть, если я не успевал уйти от удара, кулак противника естественно попадал мне прямо в пасть, а завинченная в узел проволока пробивала губу, отчего я, естественно, зверел и начинал "давить" удивленного внезапными переменами в ходе сражения противника. С другой стороны, эта отвратительная шина была чем-то вроде меча Демосфена. Ее жало, упрятанное во рту, обращено было, увы, на меня, - малейший просчет карался незамедлительно и безжалостно. Нежные и безмолвные мы вкусили блаженство ученичества под сенью платанов. Гарроту, т.е. шину, мне затянули в сентябре, а в марте я и думать забыл о том, что значит пропущенный удар. И что было кстати, потому что я не относился к числу людей, голова которых хорошо их держит - обычно в такие мгновения мне сразу же хочется прилечь, раскрыть книгу, подремать, в животе становится странно сладко, и со всех сторон наезжает такой уют, что сопротивляться ему нет сил. Шнифт, напротив, относился к совершенно другой породе людей. Его можно было бы отнести к варне кшатриев, когда бы он не был брахманом. Могло показаться, что он даже немного бравировал своей способностью. Это качество, конечно же, обманывало его врагов, а их было у него немало - он был игрок, и это дело не простое, надо кое-что знать, чтобы остаться при выигрыше, а порой и только при своих, но, главное, чтобы уйти по добру по здорову. Но он "знал" людей, и поэтому он был игрок, он знал, как они падки на мелкую с оглядкой месть, знал, что те, кто садится с ним играть, а таких обычно бывало двое - тогда в буру играли втроем - заранее ожидают от него то, что он исполнит роль безмозглого барана, но у Шнифта вдобавок ко всему был холодный глаз, бритые пальцы и добрая порция безумия в голове, чтобы чувствовать не только свою, но и чужую карту, а ее еще нужно было хорошенько протереть в голове, понять что к чему, но это было делом нескольких часов, да и не это было главным, он все равно выигрывал, пил наравне и выигрывал, и когда спустя двое или трое суток наступала пора платить тому, кому это надо было делать, а их, как говорилось, бывало иногда двое, и они, как водится, заводились и наезжали на него, а у него уже, заметьте, и деньги оказывались в руках, - ведь надо было ко всему прочему уметь быть убедительным в своих доводах, - а так, просто, на спички никто ни с кем не играл, рано или поздно нужно было держать в руках то, что тебе по праву причитается, то есть, баранами оказывались они, а не он, что им, конечно, совсем не нравилось, и они начинали понимать, что тут им кроме неприятностей ничего не светит, их "нашли" и выебали почем зря, причем безо всяких фокусов, просто им не препятствовали идти туда, куда им так хотелось, и вот, тут-то те и принимались размахивать руками, руки их мелькали быстро, но Шнифт невозмутимо стоял и совал в это время деньги за пазуху, в то время как голова его дергалась туда-сюда - так он мог простоять сколько нужно, - и вроде бы глаза его были на месте, только очень красные от бессонных ночей и выпитого - чтобы не спать, но потом он как просыпался и включался, и это было приятно видеть, он слегка наклонялся вперед и начинал лупить. Я помню, как-то мы с Ласутрой случайно оказались в городском саду и наблюдали за одной из таких разборок: Шнифт, правой рукой еще засовывая деньги за пазуху, левой уже дал одному в рог; он прекрасно знал с кого начинать - "с самого наглого", - и тут не изменил правилу, начал с него, ударил, и тот опустив руки, как во сне, пошел на него. "Ночь Мертвецов" и все такое! - но Шнифт его пропустил, обернулся вокруг оси и еще раз попал ему в голову, но теперь уже сбоку и с выражением какого-то любопытства на лице, отчего тот будто устремился дальше, по направлению к собственной мечте, а мы смотрели, как из его уха начинает ползти кровь. На красной рубашке она застывала черным. Тогда все ходили в крашеных красных рубашках и зеленых брюках с широкими манжетами. Тогда все пели: "Я люблю тебя, жизнь". Через минуту хлынул летний дождь. У всех слиплись волосы, а Шнифт боком и вприпрыжку кинулся в пролом в заборе и был таков. Мы дрались всем, чем придется - велосипедными цепями, насосами, залитыми свинцом, амортизаторами (свинчивались из секций), шлямбурами. Иногда мы дрались руками, но реже. У тех, кто не играл, денег не было, секс только снился (иногда в школе, на первых уроках, из-за эрекции тот или другой отказывался выходить к доске), однако насилия было вполне достаточно, чтобы уже и тогда потерять к нему всякий вкус. Я не был там вечность. Одно время доходили слухи, что Шнифта зарубил пожарным топором его ближайший друг Кроль, зарубил на углу у входа в гостиницу "Савой". Это случилось годом позже после того, как Пакуцу зарезали на Пироговской. Может быть, все было по-другому, не знаю. Я в том возрасте, когда собственные воспоминания легко путаю с чужими снами. Так мы прожили жизнь. Вначале одну часть, потом еще одну. Мы превращались в ходульное сравнение.
Все было так, но совершенно по другому. Ночной сад, фигуры сидящих за столом, огромная черешня в редких плавающих облаках света старой лампы, стоящей на краю стола. Я перемещаю фрагменты свидетельств к иному центру тяжести. Накренясь и удерживаясь в скорлупе деепричастия, но совсем по-другому.
- Я ощущаю непосильное смущение. Сад огромен. Книга закрыта, и птица камнем падает в средоточие моего восхищения историей. Но этого недостаточно. Мое смущение берет свое начало в ином - тишине, царящей в душах сумасшедших, пред которыми сад огромен, но перед чьим величием они беспредельны. Мои мысли подобны военному оркестру, им не суждено встретиться со словом, так они тихи. Но так уж ли оно непременно? Ищет ли его мысль, либо суть его сны, разбиваемые множеством, влекомые необъяснимым желанием к собственному источнику и проходящие через него, как обреченные божества, ступающие по песку и утрачивающие свою природу в соприкосновении с каждой его дробью. Так уж оно неизбежно, как перемещение фрагментов песка?
- Я знаю, что сумасшедшие обычно тихи, потому что зеркала для них есть лишь причина любопытства и последующего неискреннего отчаяния. Поэтому они предпочитают темные лодки, в зной из которых каплет смола; причина любопытства и отчаяния, я знаю. Под стать кораблям древних, они сшиты из ногтей всех умерших, из всех прочитанных книг, зарытых в воздух, как вода, чьи страницы прозрачны и холодны. Ищут ли они его? Иногда они трогают лицо и кричат, но крик их вызывает у окружающих только досаду. Весы выбора между тем и этим.
- Но тишина, странствующая в душах нерожденных, напоминает капли, не достигающие чаши времени - что встречает свой облик в ней? темные лодки и повторения? - чем исполнена она? тем, что никогда и нигде на находит своего отражения? Известно ли "времени" - "никогда". Такое противоречие нежно, поскольку изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ГОСТ 16617-87 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Я знаю, что время - это горячие, широкие мокрые листья, которые прикладывают к больным головам, в которые укутывают пылающие лбы, и чьей черной прохладой остужают виски. Я знаю, что номинальное напряжение = В. Как много частей в голове человека, различного рода сегментов, полуокружностей, гордых линий, горячих и мокрых листьев!
- Такие лодки, скорее, создаются из отсветов коры и свинца, но эхо не может себя усвоить, холодное и прозрачное не может осуществить себя в существительном, оставаясь неприкаянным признаком. Скрип камня под ногами - куда ни шло. Куда ни глянь, шелковистые ленты. Но нельзя сбрасывать со счетов и туман, равно как габаритные размеры, класс защиты, диапазон регулирования...
- Или же, к примеру, крики детей, настигающих без труда птиц в осеннем небе. Многие из них задумчивы, волосы их длинны, глаза зелены. Но иные славятся искусством сложения букв с ничтожными предметами и явлениями. В церемониях угадывания будущего их появление часто влечет ложь, потому что они вовсе не дети. И признаки их не стойки.
- Насколько я понимаю, эти существа никому не принадлежат. Не принадлежат, как я понимаю.
- В грамматическом плане - да; они намеренно предполагают иллюзии тавтологии. Но это не для нас...
- Так же молчалива и земля, находящаяся в самом центре эфира. Как добраться до нее? Как припасть к ее берегам? Для нас ли это? По силам ли это кому? Какова технология соединения мышечного усилия и образа? Металла и кислот?
- Вне сомнения это известно тем, кто плывет в тяжких ночных лодках по горящим водам, тем кто понимает, что выносной датчик температуры подвержен влиянию потока прохладного воздуха. Укутанные в широкие плащи, они созерцают, как их отражения радостно сгорают в пепле огня.
- Но дальше так продолжаться не может.
- Нет, дальше так продолжаться не будет. Не усталость, но утомление. Продолжение чего сомнительно. Поэтому они называют своими братьями хрупкие формулы продления зрения и электроны, занимающие сильные позиции по ночам. Сестры их безупречны, владея империями сравнений. Каждая свое признание начинает с отрицания. Любовь их медленна, как закрытые губами глаза.
- Теперь очевидней, почему никакое знание не умещает в себе ни электрона, ни дерева, поскольку последнее особенно несводимо к результату. Возьмем любое из предстоящих. Назови его: бугенвилия.
- Нет, тополь. Или же - обрыв в соединительном шнуре.
- Видишь, ты остался прежним. Какое бы имя ни произнес, дерево не станет тобою, а ты не станешь им. Вас всегда два. Более того, у каждого из них есть сторона света и сторона тьмы. Как у денег, например, которые кажутся книгами. Вот почему ты начал с тишины сумасшедших. Но и незнанию не удержать дерева, оно слишком мало, чтобы обрести в нем себя. Но и ты не удерживаем незнанием.
- Бог похож на все это сразу. Все так, но совершенно по другому.
- Да. Он похож на местоимение и на все буквы до единой, хотелось бы видеть как они будут стерты с доски (имя собственное...) безо всякого умысла. И на сумасшедших, не знающих, зачем перед ними поставлены зеркала, ржавые радиаторы, проволочные цветы и гипсовые улитки.
- И последнее, Кондратий Савельевич, едем ли мы в воскресенье за карпами? Остается ли в силе наш уговор?
- Хотелось бы знать, кто наконец теперь займется лодкой! - воодушевленно вставляет дед.
- Бог был похож на сон без сна, - негромко продолжает рассказ мама. Она перетирает чашки. И свет в ее волосах тот же, что и летящий вверх сквозь ветви черешни.
- На любовь, в которой нет ни следа любви; на смерть, чья нить ускользает от ножниц, на твое рождение, из которого ты изъят навсегда. Что там написано? Чей это почерк? Как черный флаг, сорванный ливнем и ветром. Летящий в ночь. Нет, это из другого источника. А внутри тела... что бы вы думали? - ничего. Ровным счетом ничего, кроме гула. Помнишь, как расстилались луга гула?
- Там другое, там написано: "руководство по экспуатации".
- Тогда зачем я?
6 апреля, 1939.
Что я имею в виду (и это касается того же издания о вирусах), так это то, что персонаж (взгляд) разорвал/а любовную связь с персонажем по имени 404. В серфинге довольно часто можно обнаружить, что "Erorr 404" является сообщением, которые ты получаешь в тот момент, когда файл или web site недоступен на том или ином сервере. Мне кажется, что ты точно подметил психотический стиль погони, преследования, поиска, о которых я думаю. Множество других голосов подсказывает мне, что дело обстоит именно так, а не иначе. Сегодня маму уволили с работы за допущенную ошибку. Она что-то положила не на свое место... Наверное, это была какая-то вещь. Не помню, что. Таким образом, "взгляд" (являющийся всегда взглядом читателя, но что неизвестно ему до самого конца) блуждает по web sites, будучи погруженным в размышления о жизни и о своей любви к Error 404.
15 января, 1948.
Я видел эти страницы, ты прав, они вспыхивали воспоминаниями о любви, унося назад; своего рода безумие, не отпускающее нашего бедного персонажа. Это похоже на то, как вспыхивают и сгорают гигантские звезды, галактики, и тогда слово расстояние становится смехотворным. С другой стороны можно предположить, что 404 ввел в тело нашего персонажа некий вирус (измерение?), хотя он/она/оно не до конца питает в этом уверенность. И что становится известным нашему герою от другого действующего лица - "ДД" ("дополнительного документа"), который в то же время играет роль психоаналитика других персонажей... хотя ДД также мог стать источником вируса. Короче, очевидно, что паранойи здесь больше, чем надо. Но я настаиваю на их всецелом визуальном воссуществлении, на их настоящем присутствии. Пиши мне на адрес D137:bff404fl.
август, 1952
Идея взгляда меня интересует исключительно по причине того, что реален только взгляд (или врдение), проникающее в киберпространство и на территорию сети. Говоря "онтологически", я представляю себе безымянное вридение читателя, отслаивающееся от него/ее, живущее собственной жизнью. Но видит ли оно то, что может быть увиденным, например, самое себя? В конце концов, мы приходим к мысли, что ему необходимо убежище, где только и может возникнуть повествование, с которого мы начали, но таковым убежищем ему может только служить буквальное тело читателя, читателя его собственной истории, и в которое оно погружается без остатка.
Так вот, - какой же информацией обладает вридение?
Мне нравится твоя идея о том, что сеть - это театр. Определенно, это театральное существование, управляемое законами театра. Это и есть представление, пересекающее (рассекающее) пространство и время [какое пространство? Есть только нечто, отдаленно напоминающее "бергсоновское" время]. Кто это сказал? Я. Ну, конечно, конечно, не спорю. Но если мы будем использовать преступление, тогда мы будем должны использовать и самое главное преступление, которое совершается в театре. И каким-то странным образом нам откроется то, что видит наш взгляд. Тот тип вридения, что производит театр...
Да, ты меня спросил, видел ли я ее. Иногда мне кажется, что это была она, и она не хотела, чтобы ее узнавали. Хотя на этот счет у меня нет никакой особенной уверенности, и я просто ограничиваюсь произвольными заключениями.
- А дальше? - спросил Турецкий.
- Дальше ничего, - сказал о. Лоб. - На этом тетрадь заканчивается.
- Не может быть!
- Чего не может быть?
- Не может быть, чтобы в то время он так писал!
- Может быть... - сказал о. Лоб. - Все может быть. Именно в те годы он так и писал. Конечно, много позже его стиль разительно изменился.
- Что значит "много позже"?
- Ну... - о. Лоб пошевелил пальцами в воздухе. - Спустя какое-то время.
- "Бергсоновское"? Но, вот, что еще интересно: кто это сказал?
- Возможно, я. Но, между нами, - уже не помню.
Недоумение долго будет напоминать о себе. Дни, когда недоумение и все сразу ни на что не похоже. Спрашивается, жалость к чему? Ну да, не возражаю. Именно тогда я придумал, что она умерла. Мы лежали с ней рядом. За стенами сарая стоял изжелта ослепительный полдень, под моими веками пульсировало мнимое солнце, а ее горячая рука лежала у меня на бедре.
- Почему ты плачешь? - спросила она.
- Потому что ты умерла. - ответил я.
- И что? Что осталось после моей смерти? И зачем тогда я? Ты не ответил ни на один вопрос.
Да, но я ожидал, что мимо окна мелькнет тень. Тень мелькнула мимо окна, к которому я не имел никакого отношения. Теперь был мертв я/он/он/они, вернее, мы оба, летящие к мнимому солнцу под моими веками, перемещавшему романтические фрагменты свидетельств закрытой книги и огромного сада, тоже входившего в повествование, сплавлявшего мельчайшие буквы. Они уходили в непомерную глубину умаления. Такова оптика. Таковы опасность, отечество, окружность.
Так или иначе, я стоял в тамбуре и, погружаясь в негу гипнотического состояния, в которое по спирали затягивала монотонность заоконного повторения одного и того же (стирающая вообще возможность различий), внезапно увидел надпись на откосе насыпи. Птицы клевали мои глаза. Они не отличались зоркостью. Ни птицы, ни глаза, ни остальные - среднего рода - люди.
Я никогда не был ребенком, ты права. Обычную для тех времен надпись, выложенную крупным, побеленным известью щебнем, - белой галькой в сказках мальчик отмечал свой путь. Скорость, преодолевающая дискретность: роль всевозможных мифологий. Размытые белые пятна (сегодня я еще более близорук) гласили (не помню) либо: "до встречи", либо: "берегись козлового крана", а дальше все терялось, хотя я думаю, что поиски истинной надписи привели бы к лежавшей под рукой (надо учитывать возраст!) сентенции - относительно истины либо ей противостоящего. Казуальность небесной механики: гром следует за молнией. Акустическое присутствие наследует зрительному уже прошедшему. Казалось мы были одержимы чтением молний. Гром представлял излишнюю и медленную чрезмерность. Задавая вопрос, я уже знаю, что ты скажешь в ответ. Невозможность обратной перспективы. Банальность юношеских откровений отнюдь не претит и сегодня, вызывая разве что привычное в своей терпкости чувство отрешенной грусти. Однако, другие предощущения той поры, неловко и впервые переведенные на строго выученный язык, - не были ли они в той же степени неотвратимо смешными? Ничуть не бывало. Возможно, слова "истина", "ложь" вовлекались в отношения по причине отнюдь не желания установить их значения, но потому как они в свой черед являлись условными фигурами, скрывавшими в себе совершенно иные предпосылки вещей, связей, в крайнем случае их измерения. Возможно, такое прочтение было результатом аберрации зрения, или произвольности угла, под которым мелькнули камни перед взором какого-то проезжавшего мальчика, которому в невероятно отдаленном будущем именно этот эпизод, касающийся рассыпающегося в белизне шипящих гранул зрения, вскипающего по краю вещества, потребуется для накопления времени, вернее, для внесения незримого момента случайности в повествование и для отделения себя от вымысла описываемого, то есть - достоверного. Эффект стереоскопии, оскопления привычного ветвления: все происходит до того, как разворачивает себя мгновение. Время излишне.
Так я сказал какому-то человеку, остановившемуся перед моим окном в ненастный летний вечер. Что я мог ему предложить? Партию в шахматы? Одно или два забавных наблюдения? До сих пор не знаю, кто проезжал, и где я об этом вычитал. Важна была не сама фраза, и не то, что кто-то бесследно исчез; хотя и об этом, наверное, придется рассказать, но все в свой черед, даже чтение молний. Можно здесь остановиться, на мосту, над домами, глядя вниз, туда, где когда-то текла река. Открыть бутылку пива, после выкурить сигарету - вот родина. Оказывается, ничего этого не жаль. Ни реки, ни мостов, ни осенних наводнений. И это - просто. Что тоже несложно. Нужно быть уверенным в одном, в том, что у тебя не отрежут обе руки в знак неразделенной любви к собственному народу, невзирая на то, что таких народов тьмы и тьмы, причем какой из них считает тебя своей неотъемлемой принадлежностью, неизвестно. Это зависит. Тогда вряд ли обойдешься одной отрешенностью и грустью, - придется учиться писать зубами. Чего жалеть? По стеклу ногтем. По песку водой. Нормально. А когда поймешь, что и это пустое, когда опять уяснишь, что мир является заурядной совокупностью возможностей, в которой величие и ничтожество имеют неоспоримое, не требующее никаких гарантий, право являть себя в одном и том же мгновении, и что они и есть та самая безымянность исчезновения мгновения как такового, может быть, опять наступит пора понять, что нет ничего, о чем бы стоило писать. А никто и не пишет. В нарочито медлительном продвижении, слово за словом вести к концу предложения, к краху, к великолепной кратчайшей вспышке, настолько неосязаемой, что останавливается в странном весельи сердце и нелегко даже уму подыскать ей соответствие в каком-то возможном повторении, ни единому из них (вплоть до воображения) не успеть запечатлеть молниеносное распыление, когда на месте ожидаемого возникновения ничего не оказывается, и повисает нечто наподобие умозрительной пыли, нескончаемо долго оседающей на предметы, предвосхищения, вещи, воспоминания, с одной стороны сохраняя их, привнося в них неколебимую неуязвимость: навсегда; а с другой привнося изменения в их очертания, - возможно именно этим качеством неминуемого постоянства в незавершаемости ожидания преображения. Только утренняя пыль обнаруживает ток луча. Мы просыпаемся. Мир завораживает. Ты спрашиваешь мир - "помнишь ли ты свою ночь?" Ответа нет. Забор остается непокрашенным. Но еще прекрасней созерцать увядание распыленного по нашим зрачкам луча, проносящего, подобно галактикам сновидений, то, что так и не стало делом существования.
И все же, если быть откровенным, некоторые усилия прилагать приходилось. При всем желании этого не скрыть. Многие годы я не без интереса наблюдаю за процессом моего вживания в то, что привычно составляет план нашей жизни, исподволь обнаруживая или, лучше, проявляя узор, имеющий отношение только ко мне, каковому отношению, кстати, я мало верю. Из каких составляющих она складывалась, сказать теперь так же трудно, как и ответить на вопрос относительно состава любой вещи, ее проекций, теней, времени. По части чего я и сегодня не совсем уверенно себя чувствую. Вероятно, следовало бы говорить о спасении. Но произнося это, я, к сожалению, ничего не представляю, будто проваливаюсь в тягостное выжидательное молчание. Если бы в этом месте, скажем, я заявил, что обожаю поедать собственные или чужие экскременты, уверен, окружающие бы вздохнули спокойней. Было бы понятно, что то, что я пишу, является литературой и ни на что более не посягает. Кроме, пожалуй, "тайны бытия". Но как был бы я счастлив просто заниматься литературой, разговаривать о заветных планах, легко и радостно парить, позволяя себе задумчивые рассуждения о возвращении чувствительности в словесность, о значении ангелов, о младенцах, электронных сетях, юродивых, храня особое выражение лица. Слишком много восклицательных знаков. Вполне понятно. Слишком много слов. Что тоже верно. Вместо этого, увы, я занят самолюбованием и измерением головной боли посредством металлического циркуля. Иногда кажется, что я все-таки знаю место, где от присутствия людей никого не тошнит, но я знаю также и то, что этого места мне не видать, как собственных ушей. Есть, правда, и другие места. Из них я иногда возвращаюсь полным идиотом; а скольких усилий стоит каждый раз продлевать это состояние - неведомо. Редкие женщины (напоминающие мне меня самого) иногда в пылу страсти (отвращения?), или откровения говорят, что я похож на левантийского грека, - я спрашиваю, где она видела левантийского грека, она отвечает, что на какой-то картинке (из тех, проносится в моем воображении, что укрыты инеем папиросной бумаги и пожелтевший угол которых сахарно надломлен), когда училась в институте. Я пытаюсь представить, что такое институт, и у меня откровенно не получается. Неудача следует за неудачей. Life is a life. Потом мне снится картинка, выполненная в технике сфумато - некто в широких шароварах, с оселедцем на бритой голове, с лирой за плечом и с поводом, намотанным на кулак, выпуская клубы дыма, внятно произносит - "в наследство нам достался космос левантийских греков, но в результате рефлексии и ступенчатых (?) войн, космос претерпел значительные изменения: теперь он преисполнен слабости, червив и нуждается в том, в чем сам признаться не может из-за собственной немощи, которую он ценит превыше прежней возможности замерзать в непроницаемый кристалл огня в ожидании времен половодья. Бог оставляет человека затем, чтобы человек узнал Его отсутствие. Но в незакрываемом времени оставленности человек постигает отсутствие Бога как явление его присутствия в Его же собственном исчезновении. Не возможен ни единый образ, чтобы отразить это отсутствие, где постигается возможность, предопределенность и полная несостоятельность того и другого. Возьмем еще пример. Говорится, мы "'приближаемся' к смерти. Прибывание смерти очевидно следует из представления неуклонного убывания жизни, ее уменьшения, истончения, угасания в желании и замещения противоположным, однако в мгновение самой смерти жизнь свершается как ее совершенное прекращение, во всей полноте страсти и присутствия, не имеющего ни единого изъяна".
Грек с жестянки медленно опускает веко на левом глазу, и я едва успеваю увернуться от летящего прямо мне в лоб цехина. Боль снова оттаивает в зрении, рассекаемом линией, по одну сторону которой мы есть, а по другую - нас не стало, не было, не будет, а есть одно: возможность первого, второго, третьего. Оно делится на две части. Одна принадлежит мне, другая греку, или той, кто мне о нем рассказывает, сидя на постели в махровом халате и белых носках, успешно притворяясь собственной сестрой.
Но в наших отношениях не присутствует и тени вражды. Звезды тускнеют, восток светлеет. Проходят дожди. Закончилась еще одна война. Потому что происходящее есть тайное совещание необходимых сил, и мы оставлены для того, чтобы свидетельствовать об этом в дальнейшем. Но ты, говорит она с долей удивления (скорее, оно мнится читающему это предложение), находишься вне того, что я бы назвала справедливостью. Да, тогда отвечаю я ей, допускаю; наверное потому, что мне не совсем ясно, что ты имеешь в виду. И, вообще, как можно говорить о справедливости, если с утра идет одна и та же карта, если второй день не прекращается мокрый снег, пейзажи впадают в нищету, денег нет, а в руках то и дело оказывается потертая фотография какого-то грека с куском пиццы в руках, стоящего на вечерней улице, когда верхние этажи домов сумрачно дотлевают алым светом, а внизу разлита прозрачная прозелень, которая - пройдет еще несколько минут - превратится в аметистовые дымные сумерки, как то обычно случается в этом месте, на углу Моховой и Пестеля, где ты ощущаешь, как мозг снова становится безлюдным средоточием всех улиц мира, а все вокруг кажется настолько реальным, что невыносимо хочется проснуться. Но идти приходится всегда по одной, независимо от стороны, которую выбираешь. И места.
Справедливо предположить, что в молодости именно такая экспансия представлялась единственной альтернативой тому, смутное осознание чего мы носим в себе задолго до разделения на то и другое. В слюдяные разрывы секунд по каплям втекала луна. Сок белены, лебеда под косой, бормотание гребли, - бесцветнoe горение горла и волосы воды на стеклянном гребне ветра. Знаем ли мы, что мы знаем; как каждый из нас это знает, а затем, после, потом, тогда, точно блуждая в садах синонимии - ступая со ступени на ступень, вниз, третий пролет, упуская с неожиданной легкостью отсутствие опоры под ногами (вереск, едва уловимый хруст подмороженного песка и плеск, означающие теперь тонкое кольцо на безымянном пальце - вот еще одна подробность, уводящая от означающего к синестезии): что означает каждый для имеющегося у него знания? Теплый удар ветра рассеял споры. Столкновение с ветвью, с дождем, металлом, с пеплом. Я проходил здесь по многу раз. Важно понять, каким образом происходит процесс лексического отбора. Выбор того или иного слова есть акт сознания, создающий реальность, к которой, за неимением другого, меня словно сносит течением - странные берега, к которым никогда не пристать. Перераспределение значений, освобождение смыслов: увеличительное стекло в медной оправе, модель фрегата, книга, раскрытая на странице, где краем глаза возможно вырезать беглое: "есть там какое-то дерево, из которого вырезают палки; они весьма красивы и пестротой своей напоминают тигровую шкуру. Дерево это тяжеловесно; если же его бросить на твердую землю, то оно разобьется как черепок", - подальше, за граненым стеклом шкафа, мраморное яйцо о четырех дюймах высоты, метелка из поблекших, некогда раскрашенных перьев, янтарная рыба с раздвоенным спинным плавником, заточенная в фальшивый хрусталь странного прибора, предназначенного для одновременного измерения высоты всех возможных лун. Одним словам отдаем предпочтение (они извлекаются невесть по какой причине из каталогов небытия, то есть - меня), другие остаются контурами лишь самих себя, мольбой перечисления, возникая в сознании тщетным стремлением соединиться с вещью, давно уже порвавшей с блаженным мгновением беспредметности в своем притязании на бытие. Возвращение невозможно. Какой день нам идет одна и та же карта. С Литейного на Маяковского заложили проходной двор. Не забыть. К слову, там никогда его не было. Заведомая ошибка. Ищи другую улицу. Другие окна и голоса.
А со среды на пятницу Диких приснился сон. Крыша не крыша, луг не луг, но идет Диких по плоскому месту, посвистывает и видит под ногами, как плещутся звезды, - дыры, подумал было Диких и был не прав, поскольку действительно шел по лугу, и было ослепительно светло. Так бывает, когда небо затягивается молочной сияющей пеленою, и свет невыносимо ярок по полудню, возникающий ниоткуда и не простирающийся далее собственных границ, и только стелятся тяжкие дремотные травы, а утром, конечно, никакой росы - к дождю как бы все идет, но ни капли не проливается, и все ярче горят очертания предметов, даже не их собственные очертания, а что-то в зрачке, то, что встречается с желто-пурпурным свечением следов, оставляемых вещью в ее движении. И тут откуда ни возьмись этот ребенок навстречу, надоел он Диких изрядно, но пускай, думает Диких, останавливаясь, как того требуют приличия. А дитя, лозой поигрывая, молвит, от света мучительного бессолнечного застясь рукою. А если бы глянуть под руку - увидать каждый бы смог облака, несущиеся с юга с сумасшедшей скоростью, низко... почти что над головой.
- Отгадаешь, Диких, - говорит дитя чужим голосом, - загадку, в живых останешься. - А само губы кривит, будто нет у него охоты такое выговаривать.
- Так ты и мое имя знаешь? - дивится Диких не по наивности, а по лукавству скорее - время затянуть хочет. - А не отгадаю?
- Да как же так! Человек ты бывалый, поживший, многое про жизнь знаешь...
- Ладно-ладно! Полно тебе, загадывай, - решается Диких, и становится ему щекотно под сердцем.
- Ну так вот, скажи нам, когда ты умрешь?
- Я? - говорит Диких. - Я? - И умолкает.
В первый миг почувствовал Диких грусть неописуемую, но уже в следующее мгновение говорит он следующее:
- Постой-ка... Если я правильно понял... Я умру, если не скажу тебе, когда я умру?
- Именно, - говорит дитя.
- Но, если я... будь по-твоему, назову срок, а потом все окажется не так?
Дитя пожимает плечами. Сон с разительной быстротой начинает сокращать свое пространство. Сон уже облегает Диких с неодолимой силой и будто в тесном, светлом мешке оказывается Диких, не в силах пошевелить ни губой, ни рукой. Затем все меркнет, и в сон приходят другие сны. Их много, и они приносят многое (пользу и вред, чаще - ничего), и это многое совершенно не имеет никакой пользы.
Я никогда не стану больше об этом писать, поскольку требование неисполнимо: к какому началу мы относим себя? Ты медленно и терпеливо меня обучала, будто нехотя... избавляться от смирительной рубашки "мы". Легче привыкать к богатству. Трудней отвыкать от нищеты. В последний раз. В первый-сотый раз вчитываясь в написанное, измененное неверным следованием еще более смутному представлению собственного желания, берешься угадывать слабые черты возникающего предмета. Лишь в слабости зрения раскрывается неистощимое величие, но, вернее всего, в восхождении к ослаблению. Он вынужден прибегать к молчанию. Что за нужда! Мы говорим лишь по причине непреложного желания понять то, что нами говорится. В итоге принимаемся (так иногда кажется) догадываться, что "мы" всего-навсего случайно запавшее в здесь и сейчас искаженное слово, правильность которого пытается угадать, выговаривая, исчезновение. Узор слюдяных разрывов. Чаще ночами, когда все уходили в (за) другое время, во (за) время скальпированных сновидений. Было бы куда как просто сказать, что в 11 лет, осенней ночью я увидел сон, в котором мне довелось переспать со своей матерью. Мы погрузили руки во внутренности птицы. Расположение органов было благоприятно. Предлоги, определяющие траектории глаголов. Скорченного, поджавшего колени к подбородку, нагого, меня без потерь и кожи несло, плавно кружа, между отвращением и страхом, одетого кровью, слизью, солью, рвотой. Фотография из анатомического атласа. Я научил петь сирен, я научил их слух цифровой записи, которой предстояло вечно хранить секретные узоры моего странствия, маятник которого рассек тело, исполняя его неуязвимостью, поселившейся ниже сердца сгустком ожидания. Тогда я перестал писать стихи. Слишком мало воска было оставлено моей собственной душе. Поэзия... та поэзия, которая... в ней было слишком мало насилия.
Я предпочел писать так, как мертвые читают книги: от конца к началу, как если бы во рту у них было помещено двойное зеркало, или же как иногда открывает себя зрению время, выворачиваясь наизнанку, превращаясь в сферу безоглядно созерцающего себя глаза. Так гласило их заключение. Базальтовые наледи испещрены киноварными очертаниями давно минувшей охоты, кровавых потеков, застывших карамельным сиянием. "Женское" - чрезмерно подробно. Кости тут же. Расплавленный мед. Насекомые царствовали в садах, как двурогие луны, высота восхода их измерялась янтарным всплеском нескончаемой китайской чешуи квадрата, сияющего на все десять сторон, как крошащееся сухим снегом заклинание. А ледяные дужки очков? А негромкий бой часов, расставлявший координаты цвету, запахам, предощущениям? А наш шепот и слова, ничего ровным счетом не значащие спустя несколько часов или дней? А фортепианные этюды Черни? А георгины, роса на дереве колодезного ворота, отдаленный плеск внизу, сведенный в блистающее кольцо, заключившее наши головы, но ни единого звука, ни единого дуновения ветра, - беспомощность птиц и других вестников. А, наконец, вот, это: "чем меньше опытности было у нас в подобных наслаждениях, тем пламеннее мы им предавались, и тем меньше они нас утомляли"? Сколь волшебно все следовало одно из другого, продолжало друг друга, себе же предшествуя в сознании предощущением иного продолжения в явленности навсегда повисшей в парении глагола настоящего времени. Видео-камера находилась у тебя в комнате. Монитор я оставил у себя; лежа на полу я смотрел, как ты раздеваешься (с потолка капало, еще я смотрел на провода на полу), как ты поглядываешь на камеру, зная, что я, должно быть, неотрывно смотрю на тебя, знающую, что я смотрю на тебя, как ты стаскиваешь с себя платье, все остальное, а потом не ложишься, а продолжаешь стеснительно стоять, испытывая нарастающую неуверенность - тебе предстояло предпринять вполне заурядную вещь (действие, заключенное в скобки, как выражение): кончить перед камерой, как будто для себя самой, оставаясь совершенно свободной от любого ожидания, но, тем не менее, осознающей, что ты "находишься и на моей стороне тоже", рассматривающая себя моими глазами, отдаляясь дальше и дальше от иллюзорного самоотождествления - вот где угадывалось все более крепнущее напряжение: между обрамлением, т.е. мной и пустотой, заменившей твою телесность и чистое намерение. Имеет ли "справедливость" отношение к нашим опытам? Исследование закона является безусловным его изменением. Мена, обмен происходил изнутри, как пламя в пламени. На мгновение ты поворачиваешься к камере бедром, что за этим кроется? - полагаю, смущение. Страх того, что я смогу увидеть татуировку на другом бедре, мельчайшие буквы которой складывались в рассказ о календарях и блужданиях в скрежещущих камнях, живших во рту монотонной речью о будущем, собственном будущем, - а мне что до него, какой нитью следовало меня пришить к самому себе? Ощущение бесполезности или никчемности всей затеи? Мы хотели любви. Это предложение не имеет значения вне предложения. Мы хотели множества слов. Она должна была стать добычей нас, возникающих с совершенно иной стороны повествования. Мы заслуживали того, чтобы увидеть ее лицом к лицу, увидеть, как она возникает из собственного отсутствия, - схватить тот момент, когда ее предпосылки меняют собственную природу: обещания стать чем-то иным, когда режущая слух тишина берется сворачивать пространство. Но где мы были в те минуты? Почему мы ничего не запомнили? Представление самих себя себе - задание было изначально непосильным. Продолжать быть реальностью и одновременно становиться ее же знаком, ничего не скрывающим, но неустанно возводящим себя в непрерывной тени, даже во сне, где ничто ничего не означало, кроме того, что хотелось в нем видеть. Я видел, ты видел, она видела, все видели. Куда девалось то, что было увидено? Видеть значит думать, думать значит спать. Сон не что иное, как необходимое сочетание знаков. Грохот воды рос у порогов, желтые гривы пены, влажные пряди воды в острых гребнях ветра и медленное мерцающее прояснение шума. На берегах - прищурься, сколько раз, - солнечные поля купавы. А то, как мы учились целовать друг друга повсюду, начиная с пальцев ног? Листаем дальше: когда ты прикоснулась бритвой к груди, - нет, разумеется, все поддается описанию: "зрачки твои сузились, - вот как это пишется, - дыхание на миг пресеклось и ты с нежной силой, при всем при том медленно, очень медленно провела тончайшую черту, которая тотчас стала расплываться кровью (утренняя волна близорукости), к которой ты склонилась и слизнула, а когда подняла глаза, я увидел, что они сияют ликованием". Green veins in turquoise, or the gray steps lead up under the cedars. Очевидно не следует выпускать музыкального инструмента из рук даже в огне .
Предложение описало дугу. Мне показалось, живо сказала ты, что я вот-вот что-то пойму, но это сразу же исчезло, хотя осталось в памяти налетом восторга предвкушения. Чрезмерная подробность в утверждении "женского". Это неимоверно важно, наподобие навыков устного счета. Но тогда, что это означает? Не знаю. Не задумывался. Так всегда, хотя это мое право, мое хотение, мое желание, моя очередная попытка "не исказить" мир. Что бы я ни сказал. По обыкновению, я и на этот раз пришел сюда, когда мне ничего не оставалось делать. Старика на велосипеде унесло в дальнейший дождь, факс от приятеля на глазах утрачивал внятность, - я был свободен. В университете барометр показывал сушь. На факультете танатологи в шортах пили пиво. Пива было запасено на долго. Сидевший рядом с ними грамматик изнемогал от собственной гримасы, приподнявшей уголки его губ, и от духоты. За гримасой плавно разворачивалась тайна грибов. Грамматик, вопреки всему, делил мир на покуда доступное (чего, как ему казалось, становилось больше) и покамест не доступное в высшей степени. Не доступное в высшей степени хранили танатологи. Они хранили недоступное в глубинах пива, вкус которого со странным упорством норовил ускользнуть изо рта грамматика. Рот напоминал ему нору из пемзы, в которой происходил процесс производства алюминия в континентальных масштабах. Цвели вишни. Коридоры были наивными, желтыми и длинными, состоящими из обморочных переходов между делениями циферблата. Танатологи относились к классикам с разумным спокойствием, но с ласковым укором к юным дерридианцам, которые в свою очередь невероятно много курили на лестнице, толкуя о Фассбиндере и последнем скандале. Фассбиндер был мертв. Суть скандала заключалась в том, что в последний свой приезд в Одессу Лиотар, мол, начал свою лекцию с анализа позднего Бердяева. Многие склонялись к тому, что это следствие обыкновенной ошибки, и речь шла о Бодрийяре. "И то и другое важно в равной степени", - веско заявил в изрядной бороде танатолог и протянул грамматику леща, совершенно волшебным образом извлеченного из-за спины. Существовало мнение, что Египет последняя станция. Ошибка всегда сознательна. Подчас ошибка является результатом сложнейших, многоуровневых операций и расчетов. Мне дали пива и время, чтобы я нашел в себе силы войти в аудиторию, песок и воду. Четыре человека листали тетради. Все остальное было как прежде - коридоры, дым, время, вишни и память. Окно в конце аудитории объявило о военных действиях. Воздушный змей трепетал в синеве. Рыбий крик костью стоял в ушах. Моя работа в этом университете подходила к концу. Однажды мне сообщили, что она началась. Я подходил к этому концу со свойственным мне равнодушием, но только с обратной стороны. В итоге работа и я вновь разминулись. Начинались каникулы, о которых я мечтал всю жизнь. Но, любезный читатель, как вздрагивает и поныне сердце при одном только припоминании тех мест, где всегда находился для меня приют и кров! Сколь благостно было засыпать под одеялом, которым без лишних слов делились с тобой антропологи, а засыпая слушать отдаленное и все же звонкое журчание коньяка. Трубу, по которой он тек денно и нощно, безуспешно пытались найти многие. В мое время говорилось о трубе, как о смутном, ждущем своего часа пророчестве. В иных диссертациях труба представала едва ли не архетипом паровоза, а со временем - энергии как таковой. Сотни жаждущих украдкой сверлили стены по ночам. Некоторые сходили с ума. Единственный человек, кто наткнулся на нее в период ремонта водяного отопления, был Григорий-Царь-Котов из управления главного механика. Однако, как гласит один из апокрифов, после своего нечаянного открытия Григорий оставляет котов, механика и постригается в монахи. Точно прочерченная деталь всегда ценилась в тех местах. Будто ускользало главное, и требовалась тонко взвешенная стратегия нанесения подробностей на карту, чтобы ненароком не затеряться в белых камнях, в изветвлениях "до встречи", или "никогда", как будто с кого-то станется прочесть иное, повторить путь, проследить, утверждая в повторении исчезающее. Отражение мгновенно, как сравнение. Сравнение неуследимо, поскольку "второй части" его не существует. Только серп маятника непрерывно серебрил траектории невесомым искривлением прямых, продолжая некогда написанное письмо в тюрьму. Насекомые, - строка из книги мертвых нескончаемо живущих в умирании. Однако свидетельства из этой области чрезмерно скудны. Города мало чем отличались друг от друга. Теперь ничто не мешает говорить об этом открыто. Секрет преисполнял нас значимости, в его присутствии пребывали смыслы, не отделенные друг от друга - Эдем значений. Я никогда не сумею (успею) написать о том, как образуется узор огня в поникшей от утреннего мороза траве. В сумерках без труда можно было угадать контуры ангела невроза или описания, означающего свою пустоту, не таящую никаких направлений, кроме одного - к нескончаемому предвосхищению собственного явления. Они сказали: "Ангел Истории"... Понимание эпифеноменально. Иным кажется, что этот опыт не имеет конца, я же придерживаюсь отличного мнения. Раньше я пытался разбудить в себе сочувствие к тем, кто их населял. Они прикладывали ладони к лицу, будто пытаясь укрыться за ними, но мне хорошо были видны их настороженные глаза. На грунтовой дороге не таял снег. Помнишь, я ведь не сразу разобрался, как надо тебя раздевать... Отточие означает не смущение, но забывание, точно так же, как непредвиденные обстоятельства, мешающие продолжению. Неправда, что руки знают, что им делать. Никто ничего не знает. На ощупь. Снегопад продолжался четыре дня и четыре ночи. Но я хочу вспомнить, видел ли я в минуты, скажем так, бесцельного (абсолютного!) "блуждания по твоему телу" то, что находили мои руки? И связывалось ли это с образами, столь беструдно до того завладевавшими воображением? Каким образом происходило совмещение тебя с той, которая как бы существовала до тебя, но благодаря, разумеется, тебе. Почерневшая пижма, небесное вращение велосипедных колес, солнечное расследование. Убийство, как древоточец, прокладывало свой путь в массиве недоумения.
Оно определяло границы сроков и непогоды. Однако я вовсе не нес им никакой вести. У стены непомерно высокого, лишенного привычных пропорций, строения воздуху отвечали неслышные гонги. Их звучание было ложно геометрично. На холмах Калифорнии в рассвет мы слушали изгнанников Тибета. Они настоятельно утверждали, будто продолжают свой философский диспут, начатый в 1439 году в дацане Чжюд-мад пред лицом самого Шеграб-сэнге, только что завершившего строительство этого дацана. Иные утверждают, что обилие выделяемого пота при диспуте не свидетельствует о приближении к просветлению. Но мир состоит из ложных признаков присутствия, и только укол соломинки в темя позволяет увидеть то, что неподвластно как знанию, так и молитве. Широкие пурпурные рукава, подбородки, бензиновая гарь. Иссиня-черные птицы с алыми хохолками парили в лучевых сферах дрожи у самых верхних уступов здания. Воздух, раскаленный ненасытной прозрачностью, приближал вещи к их истокам в зрачках. Снизу нам было видно немногое, но я заметил на крыше несколько человек. Один из них сидел на стуле в неуместном для такого жаркого вечера темном костюме, рядом с ним держась за спинку рукой стоял некто с раскрытой книгой в руках, тип его лица наводил на размышления. Был еще кто-то третий. Я видел как на их лицах, на летавших по кругу с шелковым треском страницах открытой книги и коврах, устилавших крышу, играли сапфировые отсветы далекого пламени. Не исключалось, что в порту горели корабли. На миг передо мной встала картина странного и доселе никогда не виданного города. И странно было то, что я давно как бы знал, будто находится он на севере, и ночи его являются зеркальным повторением дней, а сам я тем временем не шел, но будто бы плыл среди серых безлюдных домов на легком не известного мне типа судне, чьи паруса поедало призрачное пламя. Мне показалось, что я даже слышу обрывки беседы. Чей-то голос произнес: "все происходит как бы в виде сонной догадки... места, которому не описать собой ни результата, ни предпосылок..." Вслушиваясь в слова, которые мне что-то отдаленно напоминали, я внезапно увидел себя подносящего безвольно к огню руку. Пламя не жгло. Вероятно это ощущение спугнуло наваждение. Продолжалось оно, судя по всему, недолго. Едкая и не остывшая пыль, курившаяся под ногами, окончательно привела в чувство. Я оглянулся, стеклянные клетки с детьми на деревянных колесах в строгом порядке следовали за основной колонной. Штандарты мерно колыхались в раскаленном молочном тумане.
Мы провожали планеты в очередное изгнание. И вот еще что: взмахи рук. Точно нас приветствовали, хотя было очевидно, что мы покидали город. Могло показаться, что мы уходили, пересекая воображаемую черту мнимого поражения, которым всегда, даже во снах оборачивалось бессмертие. "Нужно было прожить жизнь, - услышал я негромкий голос, - чтобы понимать все не так, как понимали это другие..." И кто-то в ответ: "Но является ли то, что я говорю, тем, что моя речь "перенесла" из области намерения "это" сказать в спектр призмы языка, тела его смыслов, куда вовлекается любой мой, разворачивая свои собственные отношения? Ложь - лишь поправка на параллакс. Струны, натянутые во рту, переливались дрожью расщепленных следствий и темными радугами ртути, не пресуществленными в двойные зеркала. Как смехотворные в своей поспешности суждения. Как коричневое на розовом. Как дождь на лице. Как известное в неизвестном. Как соловей. Как "где", в котором находится "всегда". Горы приблизились, однако ничто не изменяло пропорций во взаимосвязях звука и памяти. Фарфоровая чистота окраин в сколах расстояний между вещами наращивала частоту передающих колебаний. Их было недостаточно, чтобы мысль смогла обратиться к ним, словно к опоре дальнейшего движения по безымянным склонам, но вполне достаточно, чтобы немо обустроить сладостной снастью оперы любое движение извне. Человека отделяет от него самого самая малость - язык -, об окончательном избавлении от которой он неустанно просит небо. Последнее также является неприметным различием, не дающим человеку исчезнуть в своем к нему обращении. Не уточняя кто и зачем. Иногда снится, что вытаскиваешь как бы занозу. Она оказывается непомерной, она непрерывна, - ты сматываешь себя, оставляя себе лишь одно головокружение и слабую попытку ухватиться рукой за край постели. Утешение не из лучших. Иногда вопрос совпадает с ответом.
Их обычаи поначалу вызывали понятное разочарование, а по прошествии времени все более заинтересовывали неизбывной никчемностью, затрудняя поведение. Я вспоминал улицы городов, бескрайние славянские просторы подоконников и коридоров. Ко всему прочему я подозревал, что нам какой уже день идет все та же карта. Широкие реки песка охватывали город с севера, откуда, поднятые смерчем, медленно выгорали к плато. Искусство попрошайничества находилось под официальным покровительством государства, для нации оно было всем - литературой, историей, отчасти философией и богословием, но конечно, если бы они были знакомы с Платоном, они несомненно объявили бы себя продолжателями сократической традиции. Деревья здесь не имели листвы, но обильно цвели каждый одиннадцатый год. Таков был цикл превращения просьбы в ответный дар. Число одиннадцать управляло жизненными циклами: неделя состояла из одиннадцати дней, между зачатием и рождением пролегали все те же 11 месяцев, жизнь человека обозначалась просто числом 11, которое выражалось в фигуре особенного начертания, напоминающей две стрелы, встретившиеся в полете из. Деление на два означало в те времена безумие. В одиннадцати, полагал я, они сохранили монаду единицы, не унизив ее нисхождением к делению. Зависит, как записать.