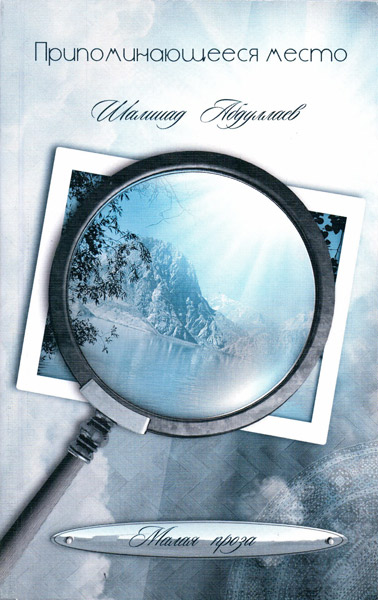
|
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2012. Серия "Воздух: Малая проза", вып.8. ISBN 978-5-86856-223-5 Обложка Вадима Калинина. 152 с. |
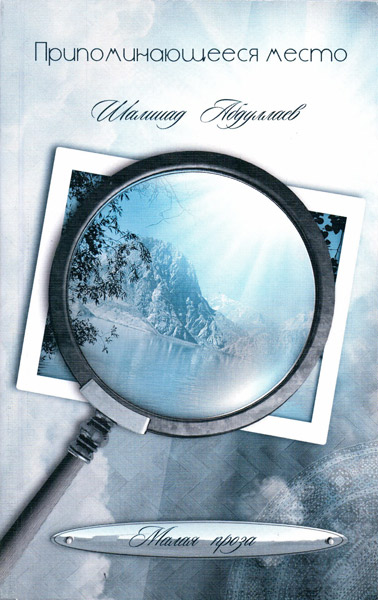
|
|
Казалось, дерево опекало свою тень, словно господин единственного раба, уцелевшего после засухи, – дальше было видно, как поверх сучьев прямо перед поляной червиво изъялось смутное подобие Млечного Пути: загородный пляж. Ты положил слайд на журнальный стол. В этом пленочном эскизе, умеряемом пластмассовым каре на полированной доске (на сей раз вне фамильярности стороннего зрения), долго, дюйм за дюймом отгорал береговой луг, на котором испытывал полезность своих считанных отростков прямоходящий живчик, трусивший через сорняковую пыль к широкой озерной наживке: туда, вниз, где играл темью Исмаил-куль*, топкое имя, будто оно наблюдает ход Истории от руин к рутине, или, допустим, кто-то выныривает из воды и попадает немедля в кромешную ночь, на самом деле в ослепительную мякоть базальтовой сиесты, или просто карий глаз последним взирает на крушение рода в священной книге, почти коль* в любом тюркском сознании, ничего общего с олсоновским "Call me Ishmael", пророческая десница, зыбкая, как тать в знойный час, лишенная братьев, что дали озеру на своем мглистом жаргоне, прячась в зинданах собственной несвершенности, другое название, "мавр", блатной рык, обманчивая и полуденная чернота слабых волн. Я моментально узнаю́ тех, кто убежал отсюда, будучи тут, сказал он, вернее, увернулся от здешних мест, ни с кем не советуясь и не сообразуясь с чужой указкой, никакого угождения укоризне вертких нужд, само собой, причем все происходит молниеносно, сказал он. Берег, какие-то близкие люди, покинувшие свои следы в предозерном песке и спешащие три часа назад во всяком случае к завтраку на траве в глубине рыжего слайда, но вещи вокруг мгновенно потускнели, словно только тусклость таит их тактильность и придает им зримость, – полированный стол под квадратной пленкой, две пиалы в кухонном шкафу, гипсовый феллах с разинутым ртом, прорицающий панику в сердце сегодняшней идиллии в задней комнате большого одноэтажного дома на верхней книжной полке. Я ничего не чувствую, а то, что я чувствую, убивает меня, – после его четвертой затяжки (чьи-то пальцы пока не решились выключить радиоприемник) "мавр", уменьшенный равниной, начал вращаться, как фонограф, на километровом расстоянии, словно озерная вода снизошла до бесцветного вращения или принялась отстаивать свое наличие через этот дисковидный мираж, и дымок анаши возле садового топчана, устланного ковром, полоснул спину янгичекского* камзола, заложенного нитяной фигуркой старой девы, которая тотчас (покровитель скромных слухов провел целебно ладонью по ее лопаткам) оборачивается к мужчинам под анашистской лохмой во внутреннем окне, обращенном во двор, и смотрит на них, как сестра, без выражения, будто возвращает горькое облачко назад в журнальную бумагу, свернутую гильзой, в тлеющую фразу на трубчатой странице насчет актеров, чьи лица в пудре на сцене увеличены гигантским зеркалом Луки Ронкони в "Неистовом Роланде". Между тем бумажные клочья казались на поверхности озерной воды настолько неподвижными, будто в действительности лежали на дне потеплевшего озера, как никогда ровного в дневное время. Приятель-гость (или двоюродный брат, или тень, или соглядатай, или твой двойник, или доносчик на твою тайную долину), зашедший к тебе якобы попить чаю, тоже впадает в минутную неподвижность и так упорно сейчас не шевелится, что даже изблизи сходит за свой фотопортрет, – нервное тридцатилетнее существо в апатичном месмеризме субботнего отдыха прислушивается к музыке. Твой старший брат и два его старших брата в глубине дома, в отцовском кабинете, крутят крошащуюся бобину на дряхлом маге в металлической обшивке, фламандская инструментовка, Focus, тягучие заикания акустической гитары под бурыми усами Яна Аккермана без вокала. Сестра в саду через пыльное стекло, исказившее ее и без того неверный силуэт, подает им знак, не курите. Ребро руки плавным толчком открыло окно, чтобы папироса, истратив морщинистую ханку, вылупилась поодаль из двупалого мужского щелчка, будто сзади оставлены две скорлупки брезгливо-хлесткого звука, из которых она состояла. Последняя косячная струйка иссякла на лету, и обуглившийся комок упал на губчатый суглинок в арык под верандным барьером. Его жест, корявый и быстрый, не замеченный в повседневном мире, дарит лучезарность в ноуменальных краях. Он улыбнулся, словно прочел твою мысль, – гипертрофированное ощущение случайности моего появления на свет, обильная обыденность, накопленная в таком избытке, что фигуры смещаются с пункта А к станции Б и в том же томном ритме возвращаются вспять: никаких изменений. Женщина в камзоле, будто бесчестя место возле топчана, где она стояла, костяными шагами пересекла двор и, как столб, замерла перед бельевым столбом, хотя диагональный свет лилейным росчерком лил сквозь пробоину в дувале* на иссохшие строительные плиты под брошенной на землю велосипедной шиной, по которой ползли муравьи у края неба. Их неподвижность (о́зера, сестры, сидящих за столом мужчин) настраивает на признание их же наличия, почему-то сказавшегося именно в конце недели в одном пригородном обзоре, и натаскивает взгляд на средний тонус всякий раз текучей внимательности, которая в большей мере содержит как раз то, что упустила, – гость (покамест без усталой улыбки уличного интеллектуала) встает на кухне напротив коридорной бойницы, обходит газовый счетчик, мраморную подставку для часов с боем, чей гонг нелеп в июньской жаре, ряд стульев, щечную рельефность полированной доски, персонифицированной вашим восприятием между столовой и верандой, лакированные рожки на поперечном пластиковом стержне и распахивает окно, в котором блещет солнце (по сути, зрению дали фору в поисках внеоптических чар). После чего он направил указательный палец на выжатый гранат в углу стола тем жестом, каким Он выбрал молодого мытаря в картине Караваджо, на сморщенный алый плод, чье кожистое, горькое отверстие выпустило все бессочные зерна в фарфоровое блюдце рядом, и сказал, "сакре-кёр", но ты смотрел на двор, на пришпиленные сестрой к бельевой веревке киногеничные простыни, что плескались в белой магме или, вернее, шлялись на месте по отмеренной их длиной воздушной траектории, вперед-назад, усыпляя, парализуя ватную зоркость. В общем, сон разума порождает светоносные комнаты родового гнезда в прошлой жизни. Кто-то уснул, кто-то отключился на колдовские пятнадцать секунд... Улим не просто хак*, родной дом на чужой улице. Как во сне. Устамуминовские* подростки читают стихи Сида Баррета около цветных отбросов субботней мусорной свалки на пустыре, или чахлый севр без присмотра землисто съеживается в угловой спальне среди других мебельных глыб, или один из гостей, сонно уронивший голову именно на тот край стола, куда падал весенний луч, просыпается, или кто-то (сплюснутая зебровидной дистанцией человеческая фигура) сбегает по дверной занавеске снизу вверх по коридору, мигающему в майской мгле обширного интерьера, – улим не просто хак, рассуждают вслух два брата нашего отца, пересекая родительский двор с решительным видом, будто их лица правят ходьбой, и спустя секунду на ступеньках столовой раздается их сдвоенный топот. Всегда так, это уже действует на нервы: кем-то отменно отрепетированная иллюзия, вечный сын под сенью прекраснообутых взрослых, вялый отпрыск авторитетных решений в подножье респектабельных небожителей, незаметный зритель, бегущий привязанностей в отстраненной летаргии. Вот они уже имитируют ритуальное рыдание, но мужчины не участвуют в голосистом обряде. Отец между тем пьет чай на веранде в белоснежной рубашке с накрахмаленным воротником и глядит на подступающий к ближайшему деревянному барьеру стометровый сад в просторном воздухе предобеденного благочиния. Персиковая листва, на которую он полминуты смотрит, вроде бы неподвижна, словно ее оторвали от фруктового дерева и перенесли на экран для публичной аттракции, но стоп-кадра, насколько хватает глаз, никаким усилием воли не найти; или кинокамера все-таки остановилась внутри недолгого оцепенения в какой-то особой манере, диктуемой настырной неподдельностью садовой местности? Наконец, стихает их ненормально растянутый сдвоенный топот (в детстве он ощущал что-то подобное, когда в прихожей раздавался гул прибывающих гостей, почему-то неимоверно тягучий, и к этому шаркающему в передней гуденью примешивался хруст выстиранных манжет и, судя по замедленно смачному треску, лоснящихся в жгутовом зареве двубортных пиджаков). Они входят в глинобитный дом, отбрасывающий скудный очерк на цемент, что вьется мимо бетонной бутафории автобусных остановок и врастает в песчаный полигон, откуда, толкая перед собой ставшую расстоянием уличную дымку, прямо издалека в наш гостевой зал идут плакальщицы спиной и затылком вперед над простершимся пирамидально выщербленным асфальтом, и ты мысленно высунул руки из арочных кулис длинной веранды и окунул их в струящуюся полосу полуденного света, как если бы натянул по локоть тонкие перчатки. Скоро парадные помещения рассечет по центру женское приветствие-плач, но пока можно сказать, что ангел-наблюдатель слышит всего лишь оливковые голоса припозднившихся горничных, что моют посуду над раковиной в кухне, – не в девять утра они пришли, как положено, но почти в полдень, когда муравьиная дробь вовсю метит известковый сход с надвратного резного ибиса на асфальтовую аллею, на расплавленный солнцем смоляной тромб, упрощающий запах зноя. Плавное приближение к этому пылкому пунктиру, повторяющемуся в арычной воде, выделяет мурашей из ртутного, пульсирующего русла, словно по их деталям, по сегментам, по мохнатому увалу на лапках, по клепаным челюстям, оживающим в рапиде или в безмонтажном натюрморте, нетрудно определить сегодняшнюю дату и диалект, на котором общаются местные жители, замершие по двое, по трое в дагерротипных позах с полуоткрытыми ртами в конце улицы на первой линии пшеничного поля. Впрочем, он видит, что ты не видишь их, стоящих на заоконном майдане, – просто смотришь перед собой на (на стенном гвозде висит эспандер, поблескивающий в солнечном свете) эспандер, поблескивающий в солнечном свете на стенном гвозде, вырисовывающемся с доступной в этот час четкостью и одинаковом в любых металлических аркадах. Немного позже этот человек, поднявшийся недавно с постели, пальцами левой руки на мгновение касается глаз, защищая их от блеска, будто намеревается перевести взгляд, как стрелку настенных часов, чуть вправо, где, по идее, должно быть окно, вобравшее никем не предусмотренный, всякий раз внезапный, всякий раз эпизодический кусок большого спокойствия: пригород, пыльное на пыльном, серое на сером; в каком городе хотел бы ты жить? По радио звучит венгерская песня, тан, татан, тада, татан, тан, степная сага Вёрёшмарти; на деревянной скамье под ставнями, хлопающими с неправильными интервалами от запаздывающего сквозняка, лежит, словно сколок сухощавого письмоносца, кожаная сумка – ее бок впитывает пухлую белизну миндального дерева, цветущего через улицу напротив тюрьмы за торговой площадью. (Так странно – все равно что хипповать в шестидесятые годы – превратиться в песнь во славу поколения, находящегося при последнем издыхании.) Потом, искрясь в шкафном зеркале, в котором отражались открытые настежь наружные окна, мимо окраинных домов прошелестел велосипед, чей ноздреватый контур вовремя домчит до базарных ворот очередное живое существо из здешних блеклых старожилов с набухшим от встречного ветра над его позвоночником нательной психоделической майкой: приговор? священное притворяется обыденным? Тем не менее, как видишь, они целый час имитируют ритуальное рыдание, но мужчины не участвуют в их голосистом обряде. К тому же нечетные конвульсии светлого ветра – как водится, скоротечного, – змеисто глотают шуршащую литургию сорных трав в окрестном квартале и меркнут за чертой проезжей дельты, где тает трасса. Отец кладет на скатерть правую руку, сверкающую, как пальчатое зеркало, что не смеет разбиться вдребезги и лишь отражает мелькание трепещущих над ним листьев, напоминающих невесомые, моментально почерневшие в дневном пламени мраморные ломти. Оба его брата садятся слева от него: три спокойных персонажа, скорее индоевропейского типа, в поисках Ферганы, этой жгучей эманации покамест единственно возможной тут элементарной достоверности на фоне позднего чаепития. Печать серьезности на их лицах неотличима от загара, незаметно переходящего в невероятно чуткий, свойственный лишь людям городских окраин визуальный слух, и, кажется, все трое сейчас с равнодушной синхронностью слышат внутренним зрением, как плакальщицы умолкают в глубине дома, в гостиной, до того неизбежного момента, когда закончится их церемониальное действо, то есть до четырех часов пополудни. Вдобавок ты вышел на террасу, сказал им: доброе утро, точнее, добрый день, – пусть хотя бы отец повернется в твою сторону вполоборота, нарушив тем самым приевшуюся ему натуральность статичной позы. Так, день или утро? В ответ они улыбаются, будто улыбка дана им как надежный покров их шизоидной бесстрастности, их неумеренно сдерживаемой сочной индивидуальности: тем временем камера, привязанная к тросу, крадется скользящими толчками от крупного объекта к маленькому предмету, становящемуся крупным. На заднем плане, благодаря также короткому лобовому наезду, вполне предсказуемо и с допустимой сегодня полуясностью угадываются новые силуэты, скрестившие руки над поясными ремнями в исконной покорности поминальному поведению вдоль лавровых кустов, подстриженных с явной миметической страстью под зеленый дольмен. Почти у каждого стоящего во весь рост мужчины, пришедшего сюда почтить память твоей матери, вокруг обожженной зноем хлипкой скулы проглядывает светлая кожа, вопреки южности, вернее, "смуглости" его происхождения. В принципе, они замерли на сияющем оселке избыточной традиции, между тюбетейкой и солнцепеком, в торжественном безличье, в династически вежливой отрешенности, некогда дарованной им богами фамильных инстинктов. Первозданная тусклость необязательных жестов, генетическая уплощенность лицевых нервов, ничейный поворот головы и плеч, в общем, имперсональные сигналы из недр их телесности, опережающие любое лицедейство модерновой пластики, – чем они бесполезнее, тем необходимей как раз теперь их свежая стертость. Затем женщины в зале запели очередную касыду, славословие горним силам (ты не сомневаешься, что Господь к тебе безжалостен?), и горлица, сидевшая на оконной раме, улетела прочь, будто ей милее брань, нежели хвала: вы не приближаетесь к миру и не разрешаете ему приблизиться к вам – в такой дистанции, натянутой до бледности с обеих сторон, в такой дребезжащей неполноте и заключается напряженная и тонкая чувственность повседневной жизни. Немного погодя, не вставая с плетеного стула, без всякой причины, отец всем корпусом делает движение, как бы нащупывая под собой твердую опору, дверную ручку, над которой зависает его медная мужская кисть, завершающаяся перламутровой запонкой на запястье, – такое впечатление, будто он собирается рискованным мускульным сжатием аккуратно содрать себя со своего скелета, склонившегося в недолгом и легком головокружении над столом, направиться по асфальтовой аллее мимо обезличенных показным смирением неизбежных гостей к входным воротам, на улицу, чтобы сесть там на первый попавшийся велосипед и, минуя миндальное дерево, тюрьму, кожаную сумку на скамье, покатить на средней скорости в анонимном и неусыпном забытьи к выжженному предгорью, – после чего гортанный хор в гостиной сливается в одну сингармоничную истерию, в один хрустальный фальцет какой-нибудь аравийской вдовы, взмывающий к прямоугольнику лучезарного облака; возраст, сор свершений, винтообразно блуждающий в солнечных струях, чересчур близкие пустыри с барретовской элегией и прямоугольник лучезарного облака, увиденный со дна зияющей могилы. Но по-прежнему мерные и фронтальные разрывы между стоящими людьми наэлектризованы вертикальной настойчивостью матовой мужской невзрачности, образующей экранный становой хребет, в периметр которого, как битумная полоса, догоняющая зеркало заднего вида мчащей машины, ладоневидными порциями вплетается дувальный массив, сам себе одр в рельефных пропорциях, в крошечных, косых вздутиях, похожих на глаза газели, когда ее снимает Крис Маркер: мимолетное бремя, львиное сердце, горлица на оконной раме, жало в плоть. Кто-то вздыхает, я ничего не чувствую, а то, что я чувствую, убивает меня, – реплика в радиопьесе, залетевшая к вам, на балкон, из приемника в соседнем доме. Первый дядя ломает лепешку, и это усилие руки проскальзывает немедля сквозь его пальцы и ложится на хлеб ровным жестом, слишком уместным из-за жары, что накатывает с неба на подметенную террасу, не успевшую отпылать за ночь. Тут же второй дядя произносит бархатное название какого-то итальянского города, прозвучавшее сейчас в духоте южной рутины как целебная влага, обволакивающая рану в твоем правом виске, – золотистое и нежное сверление средиземноморского ландшафта в тикающей лунке мужского мозга, в то время как отец вслед пернатой депрессии, только что когтившей ему грудь и моментально вдруг очутившейся вдалеке между стволистых холмов, закуривает сигарету, и дым устремляется вверх, словно, взяв курильщика за руку, пытается поднять его с плетеного стула и потащить к слюдяной двери, отделяющей веранду от кухни, где две девушки моют посуду над раковиной, и сушеные побеги ячменя вцепились в их волосы, как спящие непальские ящерицы на берегу мутной реки. Дыхание моего отца, как излишек того, о чем он старался не говорить, того, что одной своей бесплотностью заставляло его вести себя разумно, мешкало под кровельным острием, под шиферной складкой, и воздух, как анемичный ребенок, с трудом пьющий горячее молоко из керамической пиалы, неохотно слой за слоем глотал его, глядя куда-то в сторону, в средоточие дворовой растительности, где самая высокая трава согнулась, задержав навсегда вязкий вдох. Точно такой вызывающий мигрень вкрадчивый зной дул в фильме "Поездка в Италию", который ты смотрел с двоюродным братом тыщу лет назад в провинциальном амфитеатре среди шелестевших в зубах низкорослых зрителей сладких кукурузных семечек, купленных у бухарских евреев перед чугунной стойкой для нетленных афиш, – сирокко, видимо, высветлил островерхий шрифт ничего не значащего имени в предвечернем кадре на картонном полотне послевоенного плаката, Giovanni Rosso, и женщина в окрестностях Неаполя черными шелковыми перчатками, в каких твоя мать ходила в курортных городах ранних пятидесятых, поймала порхающий пепел двух влюбленных, двух лепестков, застигнутых в матримониальной тоске Везувием, теперь уже мирным левиафаном помпейской эсхатологии, но, помнится, тебя раздражала шведская актриса, чрезмерно театральная и костистая, хотя остальное в картине выглядело лучше и неореалистичней – и море за меловым барьером, и немая сивилла, и торговая тележка, и оссуарий, и герой, подчеркивающий свое внешнее сходство с Росселини, пока его нынешний дублер на другой земле и в другую эпоху на велике подползает к пожухшему взгорью, и куцая местность, не отпускающая нас десятилетиями своей млечной цепкостью, своей магнетической мертвенностью стекает ручейками вниз в отчеканенную солнцем квадратную выемку на карте края, совпадающего по размеру с клочком линованной бумаги или с подпиской о невыезде, – причем, кажется, кто-то из них троих, а не ты, признался, что кино пятидесятых делилось с нами безболезненным масштабом для созерцания, и тогда фильмы во всяком случае не отличались поспешностью грядущего краха. Пожалуй, голос отца, лавровый куст, уличный уд, дехканин у пшеничного поля, настолько сутулый, что может бросить камень в окно или в собаку, зыблемую духотой на цветных мусорных отбросах, велосипедная гонка, кислая патриархальность среди глиняных стен и сундуков и в молитвенном исступлении плачущая богомолка, чей плат пахнет йодом в субботу, – пожалуй, голос твоего двойника в кинотеатре на просмотре "Дерева для башмаков", в библиотеке за чтением книги о шелководстве, на пляже с фото Фрэнка Заппы в медальоне под горлом, его впалые щеки и бакенбарды в духе вельветовых францисканцев, его полукуртка, его сердце, его бегство... Кто-то проснулся: осторожно спустя пятнадцать секунд отстегнул голову от клейкой клеенки на закраине стола. В чьих-то ушах гулко гасли зооморфные молчальники, стараясь не быть муторной грезой и скорее пропасть, подобно растаявшему сну, в скудном множестве мужских клеток. Братья теперь переметнулись на Piper at the gates of dawn – игольчатую вещь с намеком на англосаксонский простор, и покатый пляж тянется к умбровой прохладе урюковой рощи, обирая в своем низовом шествии неисследимую лазурную морось в пенной кисее возле кромки сыпучей суши. В отдалении, то есть вплотную к верандному порогу (три кирпичные ступеньки, медный стежок, прочесывающий линолеум под напольным ковром) простерт тот же овальный двор в полукружье родительского дома в доисторическом бездействии, и непрошеный зачин впредь не заманит сюда бешеные гонки и финиш. Уже не путая забытье с явью, ты через кухонное окно наблюдаешь (мой судья, или двоюродный брат, или наваждение во плоти, или двойник, зашедший к тебе попить чаю, твоими глазами впился в стародевичью неприкаянность в саду), как сестра мизинцем прикрыла глинобитную стену перед собой, заслонившую в свою очередь весь наружный хаос на груди окраин, – женский ноготь на самом деле выпятил шорох соломенных личинок в микроскопических лазах тупикового дувала. В придачу ее палец на осыпающемся фоне, символизирующем вал, накатывает на ее предплечье, перетекающее к сомкнутым губам, что перечили воздуху короткой, серафически бледной ветвью. Вдалеке оса мелькнула над громадным пляжным камнем, попирая его кинетический дар, которым он изо всех сил не пользовался, – летучесть стала бы ношей для твердой седловатой тяжести на озерном берегу. Итак, сказал он (указательный палец вернулся к руке, к новому сигаретному дирижаблю), и ты взял со стола дряблый гранат и бросил его в мусорное ведро. Итак, сказал он, Исмаил-куль высохнет в следующем году, это его последнее лето. Тут же по дверной планке чиркнуло фасонистое пикирование чаек, нацеленных на пестрящий озерные островки гнилой гумус, – вы, выводок, сказал он про себя спецом тихо, будто презирал слышимость своего голоса, вряд ли вспугнувшего канительный клюв, что ворошил склеротичные пятна на ячеистом лике почти обезвоженного "мавра", в то время как в соседней комнате – продолговатое пристанище кабинетного типа, от оконной ширмы которого открывался вид на котловину, грезившуюся в семидесятые годы облепленной саранчой солнечной равниной, о чьей готовой для жатвы желтизне не ведала она сама, – симфоника Moody Blues вплетается в приторный прелюд в устах шелковощеких бриттов, "дети детей наших детей" и так далее. Голоса, еще те, – я всего лишь певец в рок-н-ролльной банде, – возымеют ли они действие в пятидесятилетнем сознании? Нарушат ли ваш зарок не слушать их никогда (зачем бросать вызов мне, кому бросил вызов другой зов, улавливаемый только мной?)? Две белесые брови (вызывающе родная бабочка-дух) сели на подставку для часов с боем, чей гонг нелеп в июньской жаре. Они такие густые, что стерли бы горсть масонских подсвечников и звездочек на твоей рубашке, какую надел Дэвид Байрон на завтрак за неделю до своей смерти около стены в синих шашках (фотограф V.O., бесполезные инициалы, преследовавшие Uriah Heep на улицах, в парке, в дансинге, в поездах, на концертах в 73-м году). Наверняка они сговорились, сказал он, пролистать на слух всю обойму top of the pop в прошлости прошлого, как перед коллективным самоубийством, которое им тоже придется закинуть в топку своей пылающей коллекции. Заметь, обычно такое с ними происходит по субботам, и звуки влекут их к зарницам каких-то элегических стран (то, что рядом, всегда невзрачно, всегда иное, инаковость в чистом виде, и в неброскости частного вовсе не кроется уникальность общего) или, по тогдашним понятиям, к лучшему дому в долине с нашими отцами... Да, знаю... Бельевая веревка, веранда, входные ворота, ведро, из которого сестра плеснула воду на горячую землю, – раскаленная пыль, заслужившая вдруг пригоршню влаги, – самый сумасшедший запах, распространяемый хтонической тоской на десять метров окрест. Они поют, ни рас, ни раздора, ни расстояний... Это уже невыносимо, сказал ты. В глубине двора известковая полоса подметенного участка слегка осела, таясь от "доносчичьих глаз" в гипотетично-отвесной прохладе, где остатки осязаемых вещей тонут в собственном отсутствии (моментально звучит обрывок гюнтерайховской радиопьесы, я не один, за моей спиной полно невидимых друзей), и только в светоносных комнатах родительского дома естественней всего вспыхивали слова, типа одамзод барибир бирликга келади*, брат, двоюродный брат, дядя, сестра, брат, дядя, мать, брат и отец, посланники разных царств в одной семье. Да... Постоянное ощущение, что у меня мало остается времени, – держит голову прямо, Свифт, не знавший о своей болезни Меньера, прикидывает что-то в уме, пасуя волокнистые фобии быстрому, стрельчатому зною, где по диаметру чертит себя сонный перечень одних и тех же повторов, сестра, ведро, входные ворота, веранда, бельевая веревка и вновь идеальная корпия среднего женского роста с веником в правой руке, идущая к цементной арене мимо спиленных инжирных кустов, чья непродуманная бесхозная скрюченность смахивает на маковку мелких руин рухнувшей вмиг южной фактории. Держит голову прямо над столом, над сигаретой, над пиалой, над пепельницей, над фарфоровым блюдом, над бабочкой напротив двоюродного брата – наверно, без былого лоска, без воображения, когда-то навлекшего на него буйство иррациональных упований, и ты закрываешь глаза: слышны сквозь "мушки" под веками запах застойной воды, читка через коридор в соседнем кабинете Мелоди Мейкер о влиянии песен Рашида Бейбутова на Чеслава Немана, шуршание веника на цементном помосте, рыхлая тишина в трехактной драме по радио (ты вспомнил снимок Айха, страждущий немец, лысина, очки, задолбанная чувством национальной вины вязкая монголоидная скула, небритость, косой кадык приговоренного к повешению, дождевик, поникший вид мертвенного реалиста) и звяканье велосипедных колокольчиков на базарной площади. Да, повторил он и опустил сигарету в пепельницу. У него чуть-чуть ширятся зрачки, как у того, кто в течение четырех часов слушает бедану*, – сперва двустопный рефрен "скорбного горца" в сетчато-тыквенной клетке, висящей на гвозде виноградной перекладины, действует наподобие невнятного поэтического жаргона, ничего особенного, но вскорости тебя топит с конвульсивными интервалами в двадцать секунд вздымающийся мягко с икр к темени, словно ты ходишь головой по земле или распят, как Петр, топазовый наркотический прибой: мужчина заходит в чайхану, предвечерье и наклоненный дворик, теряющийся в бурой реке под ивами, – он устраивается на топчане, подпирает левым локтем золотистую подушку и заказывает лепешку и витые маргеланские леденцы, дабы усмирить ярое исчезновение слепого сахара в крови, – ждет, терпеливо ждет кайфных обмороков, чувствуя себя древней мишенью беспредметного дурмана, этой стойкой адресности птичьей захлебывающейся агглютинации, хотя стрелки на его ручных часах, оболганных медленно стынущей жарой в сгущающихся сумерках, когда дети в летних беседках плачут взапуски, показывают дневное время, половину третьего. Да, сказал он, – короче, отец пишет (твой дядя, единственно выживший, младший брат моего отца, застрявший в черствой бесприютности северного города), человек сто́ит столько, сколько он не сделал, – за моим окном сейчас по воздуху плывет узкая и длинная птица, будто снятое в рапиде лассо накрывает по диагонали экран, и листва шелестит, как белокурые монахи, отдающиеся пелоте на поверхности навеянного морем свинцового эфира, но я вспоминаю всадников в декабрьском тумане перед игрой в улак*; только тут я принял сторону бедности, и теперь, когда весь мой пыл спущен на тормозах, мне хорошо в моей новой незаметности, в убогой покинутости, укрепляющей наследственную и шаблонную нечаянность моих жестов; ливень минутой раньше прекратился, и хрустальные почки усеяли сучья, они всякий раз так делают, пишет он, – дождевые капли на черных ветках целый час педантично тают под мраморно-сырым небом, и мне хочется обе́гать наши окраины, обыскаться пыльного безмолвия в солнечном пламени... Субботний полдень, двое мужчин сидят за столом на застекленной веранде, три фантомных брата за наглухо закрытой дверью слушают на сей раз забойный Pendulum, старая дева подметает двор... Потом кто-то замечает, как твой двойник остановился внутри своей старательно прямой позы (голова почти не шевелится над скатертью; немного ниже на уровне мужской груди квадратная бумага, склонив, как положено далекой весточке, верхние углы, хрустит в его пальцах: подписка о невыезде? запоздалый тестамент?), перестал читать одновременно с умолкшими голосами в соседнем кабинете, откуда доносится щелчок ветхого бобинного магнитофона, и Джон Фогерти поет о маятнике, заставляя англофонную осанну то и дело спотыкаться в шипящих царапинах на рассыпчатой пленке. Наконец, вы оба поворачиваете головы вправо (параллельный финт горных лыжников): ваши виски и лбы озаряет коридорное окно, в котором на тротуарной авансцене между деревом и тюремными воротами сельский мужчина в расхристанных серых брюках, присев на корточки, курит, – прийти бы сюда спустя сорок лет и посмотреть на ту же картину, так называемый дух эпохи. Понадобилось полмгновения, чтобы в их глазах одно окно оттеснило другое, как первая партнерша уступает свое место второй в чинном бюргерском танце: клубья пыли, поднятые веником, скапливаются в сизой, бесплотной капсуле над инжирным куполом, как если бы воздух имел свойство твердой опоры или надежного футляра без трещин вровень с озерной поверхностью в отдалении, где чернильные волны имитируют воображаемую смолистую утечку гнилых планктонов в медитерранском узилище, – дует ветер без ветра. Странно, сказал он, такое чувство, словно я гляжу на этот пейзаж в первый раз, находясь перед преградой, сквозь которую по-настоящему все видно. Да, сказал он, стекло – самое живое вещество, чье изобилие смыл потоп, ни фресок, ни свитка, ни физиологической бодрости, ни благодарности богам, – строит разборчивость прямоугольных строк поверх плоского ландшафта: клевый леттрист, сказал он, или глаза гризетки, симулирующей свою доступность лишь в данный момент, но дует ветер без ветра, и пыль, отброшенная прочь инжирным членением (что, уменьшаясь, планирует вниз вместе с садовой землей), садится на магнитофонные катушки, которыми обложились братья в отцовском кабинете в конце коридора: Jethro Tull c маленьким Мильтоном на обложке потерянного альбома, думают они, или Procol Harum, оживляющий конкистадоров, или Холдер Ли в кепке, вдавленной в нейлоновую надпись Slade, но сестра в окне сделала несколько шагов, один стадий, в сторону входных ворот, и в ее рваных атласных шароварах, над ямочками в ее коленях, блеснул снежный пик. Был слышен запах горящих в глинобитной печи многоугольных злаков, не замечаемый никем за городской чертой. На пляже, над береговой поляной, парили тополиные моллюски, захлопнутые ложным и слабым ветром, геометрически желтые, как циферблат в приборной доске новой машины с откидным верхом, – бугристая, постколониальная левитация лиственной мишуры. Тем временем сестра толкнула воротные створки и вышла на улицу. Там, в тени миндального дерева, теперь уже на скамье сидел сельский мужчина и не курил, неподвижный, безраздельно расплывчатый в жгучем фимиаме солнечного дня, и единственное, что он сделал за пять минут, – погладил левой рукой правую бровь, как если бы этот жест был сноровкой его спокойствия. Женщина в янгичекском камзоле смотрела на тюремную стену перед собой, будто пыталась выбить из нее слезу, сутулая, в тканой облатке, ужатая до взгляда, каким она смотрела на тюремную стену, и глаза ее были настолько открыты, что мимо них пролетела оса. Пока длилась окрестная пантомима, твой гость упрямился бросить взор на письмо, точно переливчатый каплун должен был полоснуть через миг шиферный козырек над верандой. Кто-то представил безмен и тубу на дубовом серванте, обветренный султан тряпичной заглушки в стенном углублении, бумагу, вынутую из конверта: надо принять пробуждение как уместность необъяснимого, пишет его отец, атмосферу запомнившихся мест, их зыбкость, настолько дорогие, что они пойдут за тобой в иной мир, но что дольше этого состояния, не знаю, – попущение высшей неопределенности? Кто-то сказал, он что, сошел с ума? Терновый плюмаж торчал в бронзовом кумгане на выточенном из гипса верандном барьере, фиксируя свою аморфную сиюминутность. Нет, сказал его сын, вот следующая фраза – тут мне трудно ощутить эндемическое родство с вещами, что растворяются во всеобщем и удостаиваются моей любви, но... Понятно, сказал ты, дальше не надо читать. В глубине сада высокая трава, согнутая в прошлом году весенним ветром, выпрямилась во весь рост, словно очнулась ото сна. Гость положил письмо на подоконник и задержал заинтересованно-карий взгляд (не позволяя ему разлиться по другим предметам) на тутовой фактуре кухонной столешницы, как придворный плотник Кокандского ханства, читающий кого-то из "Плеяды", какую-нибудь высокомерную ламентацию Жоакина Дю Белле. Сколько помню, сказал он, отец и прежде был таким: в нем была какая-то личная тайна, без которой, казалось, беда пришла бы к нему быстро в течение нескольких дней, хотя внешне он вел себя вполне обыденно, как все, и никто не догадывался о дремлющем в нем безумии; большая удача, что он родился не в многолюдной и шумной столице, а в провинциальном городке, в котором во всяком случае ему удавалось грезить, соответствовать себе, быть всюду, и он хотел просто трудиться сердцем и радоваться, но для этого следовало каждый день действовать и сталкиваться с неприятной реальностью, то есть отказаться от питающих его идеалов; так что естественный выход он видел в смерти; помню, как он ложился и глядел на дневные блики, сияющие вдоль настенного ковра, и ничего не делал, – обычно он валялся на диване средь бела дня, особенно весной, и, погружаясь в сон, сквозь мутнеющую явь замечал, как под его ровным дыханием колышется ворс на коричнево-желтой обивке, вскоре он вдруг всплывал, пробуждался, потому что, например, ему снились парящие в полумраке, в огромном зале, пестрые тучи ахеменидских одежд, или человек амарантового цвета на голой равнине, или давно умершие родители, оба запечатленные памятным видением в профиль; он думал, что за чушь, и медленно приходил в себя, пока майское солнце, затопившее спальню, слепило его; люди? они убивали в нем зарождавшуюся к ним любовь, и ничем нельзя было ее восстановить, они стирали песнь и блеск внутри него; он готов был часами говорить о Гоццано, о калантарах, о картинах Сатьяджита Рея, в то время как собеседники улыбались и клеймили его молча, ну и болван, и грязные флюиды все-таки проникали в него, уничтожая в нем нечто неуловимое и ценное, что никогда не воскреснет; позже он научился направлять чувства, будто лучи прожекторов, на бесстрастный пейзаж, и свет, отразившись в камнях, на холме, в стволах пыльных деревьев, на глиняном кристалле темного дувала, возвращался к нему, и в груди воцарялся покой; кое-кто из близких раньше пытался устроить его на работу, увлечь "настоящей жизнью" – в юности он еще барахтался в чужой среде, силился что-то предпринять, но после тридцати понял, что больше не польстится на этот паноптикум расчетливых поступков и скуки; словом, то, что прежде пугало его, – безразличие к своим делам, к будущему, к мнению знакомых, приступы вины, – в зрелом возрасте забылось, словно иное вряд ли предназначалось для него в лабиринте, в потоке путаных возможностей; действительность принимала сигнал от его внутренней сущности, и случалось то, что должно случиться и чего он был достоин... Понятно, сказал ты и мысленно пнул пляжный камень, будто хотел привести его в чувство: булыжник перевернулся хищной, вогнутой стороной к небу – изувеченный лоб Караваджо, доведенного до крайности изнурительной дракой на пустыре, но сестра возвращается во двор, чья земля обретет к вечеру цвет ее босых ног. Вдобавок Млечный Путь плавно падает, как пух, на журнальный стол внутри слайда, весь день лежащего на журнальном столе. Последней в гаснущей сцене виднеется горсточка сутулых незнакомцев, замерших по двое, по трое на краю пшеничного поля, – тусклый грим архаичной усталости плавится на их лицах, откуда они, безвредные мумии в форме суннитского полумесяца, не смеют сдвинуться ни к базарной площади, ни к вашей веранде, ни к озеру в дымчатом покое дагерротипных длиннот. Фергана, 2005. |
Камеру, ты знаешь, установили на колесо хоппера, под вращающимся, отлакированным ящиком, под этой экзотической собственностью просвещенного мира, вряд ли подходящей для съемок с панорамы. Закрытое окно, обрывающее линию прямого взгляда, по-летнему совершенно неподвижно, как отражение в его стекле закрытого окна в одноэтажном доме через уличный коридор: лучший хаос перед глазами сорокалетних наблюдателей за последние восемь месяцев. Мы помним, что он стоял здесь, не поникший, но просто отключенный солнцем, – стоял, опустив голову около выкрашенной в белое "греческой" стены, словно винился перед ней, в то время как внизу по лоснящейся трассе мчался мопед мимо пустырей, мчавшихся мимо мопеда, и впереди катил коричневый фургон, на задней дверце которого, покрытой пылью, кто-то вывел пальцем не то T.Rex, не то Троя, – хипповый шофер и его друг в залатанной шотландке на переднем сиденье неслись против рассветного солнца, не догадываясь, что наверху, на холме, скоро начнутся съемки, и обмениваясь умиротворяюще короткими фразами, но теперь, спустя год, я почти слышу их голоса, рыхло вившиеся вокруг римского права, письменного слова в Танскую эпоху, адамитов, чернофигурной вазописи, мадам де Сталь, умбровых, рожковых столбов, своей оторопью даже в редкую бурю ручающихся за местное плодородие, – самый ослепительный день, какой вообще возможен в этом маленьком городе в нескольких тысячах километров от Средиземного моря. Вымершие улицы сползают ниже и ниже к псевдовосточному амфитеатру, к ступенчатой пуповине овальной долины, где высота не имеет иерархии и насечек. Смотри, сказал ты, фургон твоего брата, видишь... да... нет... слишком далеко. Два помощника старались повернуть на сей раз поднятую с колес и привязанную к проводу единственную камеру вправо, чтобы она уперлась в степную картину, срезанную вдоль окоема струями цветных селений. Торчащие в плоских глиняных кровлях соломенные волокна, уже с утра выжженные, не дрожали не столько в отсутствие ветра, сколько отягченные собственным оцепенением. Потом он вскинул голову там же, возле стены, продолжая лишь осторожно дышать, словно ртом сознавал воздух. Я хочу, сказал он, глядя сквозь меня, чтобы логика, которую мы с тобой не переносим на дух и в которой никогда на самом деле не встретишь единомыслия, и такая разобщенность всякий раз почему-то служит нам надежным поводом для нашего отрезвления, в общем, я хочу, чтобы логика в фильме соотносилась не с темпоритмом, но с атмосферой, и мы воспользуемся взятым мной наугад для миметического эффекта финальным трэвелингом из Il deserto dei tartari, семисекундным скольжением вдоль вжавшихся в бойницы сутулых солдат к прямоугольному крепостному подмостку, к субтильным офицерам в мундирах австро-венгерской армии, впившимся глазами, как суфии, в даль, откуда выныривает двойным росчерком долгожданная орда, покамест неразличимая, утаивающая на громадной дистанции стяг и оранжевое знамя (цвета татарской деметры) с изображением близнечных лебедей. Я вовсе не думал его останавливать, но одновременно с течением его слов солнечная яркость усилилась настолько, что его голос, казалось, подчас отбрасывал тень на истоптанную землю. Один из амбалов, что недавно тащил аппаратуру сюда, на возвышенность, иссеченную кривыми улочками, вертел в руке спичечный коробок – слышалось его шуршание, подражавшее шороху повисшей за стеклом в ковшевидных часах сепии или тому состоянию, когда на большом расстоянии от нас в подошве курганов пять-шесть длинномордых велосипедных пар здешней чумовой шайки в незавидном блаженстве бездымно летят к шоссейной чешуе через нижнюю поляну и на скорости выясняют отношения, на встречных воздушных накатах, рвущих в клочья их крикливые упреки, длят разборки блатного мира – зорко подрумяненный утренней зарей бесцельный, горький гон. Впрочем, он полминуты не шевелился, выпрямив плечи в чутком покое, что разрешил ему, правда, чуть разжать губы, то светлевшие, то темневшие в знойных флюидах – почти на 30 секунд он зарылся невидящими глазами в кольчатую жару перед собой, словно вызывающе апатично отслеживал по его тайной просьбе поблизости приготовленную засаду, полную поэтичных гэгов. Смолистая кинокамера, как наэлектризованный, окаменевший пигмей, ждала его немного в сторонке – верный аппарат для дезинфекции видений. В добрый час! Где-то двенадцать мужчин прямо за госпиталем времен Первой мировой войны играют в парагвай* на пустыре в троицын день, шесть на шесть. Или я не прав (этот фрагмент порывистых тел, только собой воссозданных, заслонен ультрафиолетовым безлюдьем костистого стадиона, либо он сохранится в заблуждении твоего частного самадхи, либо вернется к тебе в другой период с теми же проблесками привычных оживлений над сыпучей прорисью стволистого майдана, над кистевым созвездием кустистой загородной арены, – даже при резкой смене навсегда мне запомнившейся картины, где позже наверняка всплывут новые участники и неожиданные приметы футбольного матча, бытийная свежесть общего юга не теряется, поскольку происшедшее поглощает одна и та же долина)? За главной дорогой, под вами, по луговой доске брели два пастуха, лучистые под небом старики, скрещеньем бровей перебирая животных, как четки, и пропуская их мимо себя к жирно росшему вверх разнотравью, – время от времени овцы, как в анималистском эскизе, на внезапный миг искусно цепенели, уязвленные неподвижностью несметных растений, и серая поденка сиплыми хлопками осаждала наружные края осевших жилищ, просясь в наперсницы пыльной мимикрии в трех фарсангах* от кишлачной агоры, но странным образом эфирный трепет ее крылышек в человеческом подсознании оборачивался самым клейким веществом в строительном материале безоконных домиков. Он по-прежнему чего-то ждал: felix culpa, тусклые, витиеватые штрихи плодотворных ошибок в его голове, снедаемой сонливостью и стрельчатым сиянием на уличных стенах. У него, в принципе, не был вид человека, получившего санкцию на очередное умолчание о родном первоисточнике, известном только ему по крайней мере в то мгновение, когда ты случайно задел плечом камеру и горсть песчаных холмов отчалила сразу в симультанном безразличии влево, за кадр. Тем не менее, если б он сейчас пешком добрался до конца квартала, то отметил бы про себя, что в окне видно окно, в котором видно окно, в котором видно окно, в котором виден тополь, гарцующий без шелеста из-за своей бессчетной единственности в запыленном зрительном центре полметрового стекла. Всего лишь элементарный маленький фильм, думает он, и стареющие длинноволосые провинциалы на самой тягучей за весь год вечеринке разглядывают здесь, внутри ферганского захолустья, помятые обложки исцарапанных пластинок классических рок-групп, думает он, похожий на счастливца, что замыслил вернуться домой и повеситься, но к нему приближается какой-то столичный тип, отвратительно стриженый над топазовым воротником, над рубашкой в сатиновых ирисах, и спрашивает, как пройти туда-то, – я вижу, как ты, испуганный и свернутый в комок от ощущения, что этот человек догадается о твоей мысли, ведущей к виселице, величайшим усилием воли отвечаешь "прямо": сбоку сразу в фокус попадает река, и рыба в лазах двух-трех волн поймана водой, льнущей к берегу отдельно от речного потока, – кишащие жабрами перламутровые тенета, чей бег бежит бегства. Но ты подъехал на фургоне (рядом друг) к синим воротам родительского дома, не замечая, как всегда, неисчислимую автономность своей натуры, и в семнадцати метрах от машины человек с внешностью грека или крымского татарина, присев на корточки, прямо на асфальте ворони́л ржавый предмет в форме минарета (миниатюрный отросток какого-то большого технического устройства, не растворимого в предместье), умещавшийся в его пятерне, будто он дорвался, наконец, до затяжного идиллического воскресенья за крепостью окраин среди обшарпанной первозданности, не имевшей ничего общего с мыслящим мегаполисом, что давил на него сзади, заняв место его затылка, и сжимал ему темя и лоб, как громадный, неравный его весу ореол. Последний в ряду родовых фигур, думал ты, радуйся, о сдержанности говорить сдержанно, все время далеко отсюда, не с вами, не с ними, не с этими, не с теми, не в городе, не в отрогах Памир-Алая, не в кинотеатре, не в тутовой роще, но только с другими, Гулливер, страдающий болезнью Меньера, предсмертный шепот отца в ухо старшего сына, не продавай дом, тинистый небоскат, Макс Брод и Варий отказываются, во мне что-то забегает вперед, спокойствие, мужчина, положивший руки на руль, будто на щеки умершей жены, что-то забегает вперед. Мимо бокового окна фургона собака ринулась вглубь глинобитного пассажа, вовремя, именно на том отрезке улицы, где она должна была появиться только в данный момент, и тут же кисло пахнущий джип пронесся вдогон окраинной дороге, подняв клубья пыли, в которых несколько секунд стелился мушиный остаток его скорости, и вьющиеся колючки колыхались в нижней полосе лобового стекла. Затем хозяин дома распахнул синие ворота и произнес пять фраз, еще пять фраз, еще пять фраз, но ты улавливал что-то вроде величия в его естественном косноязычии, пока мелкие, гофрированные замирания небесного света глазасто шевелились в асфальтовых щелях. Река в сальных микробах, установочный кадр, овцы, колкие всходы и вода, ставшая рыболовной сетью. Это примитивное ристалище, думает он на другом конце города, эта древняя, плебейская нечаянность чистого чутья и четкости, думает он, даже не подавать вида, что ты стараешься отделаться от них, только не тут ни в коем разе, в худшем случае позволить себе сортировку вялых вещей или губчатой метафорикой попытаться заткнуть в мозгу "черный ход", откуда чужой осклизлый стресс не зальет своим кислотным зельем, своими волоокими стоп-кадрами наш объектив, думает он, в то время как невдалеке трогательно-бирюзовые домики ниже первого этажа прореживаются на месте, не пятясь в простор, на емкие, заливные луга. Выходит, ты просто увиваешься за компактной картиной на заброшенном холме, вторящей по прошествии чуть ли не сорока лет светлой космополитичной местности шестидесятых годов, которая теперь вообще непредставима, но такая непредставимость и есть ее "лик", шепчет кто-то невидимый через твое правое плечо, ничего страшного, продолжает ангел, нужно смело идти по ложному пути, попирая подслеповатую пыль, такова обычная миссия почти всех неудачников, нужно разбросать окрест лишь те предметы, от которых щемит сердце, – допустим, круглую бобину в пластмассовой упаковке, или магнитофонную ленту тридцатилетней давности в пожелтевшей картонной облатке, или жестяной футляр с надписью по центру "слабому от слабейшего", или снимок (сделанный твоим отцом в шестьдесят седьмом в разгар его средиземноморского странствия) задумчиво худощавого мальтийца без возраста в Ла-Валетте на пристани перед концертом Steppenwolf, или обметанный послевоенным свечением пурпурный журнал "Оффичина" двух грамшифильски настроенных покровителей диалектального духа. Неподдельность может быть достаточно сложной. Тем временем в родительском дворе впереди на бельевой веревке пестрят цветастые стеганые одеяла, что напоминают издали тряпичный локомотив, скрывающий сад, и недолгий ветерок полдня старается влезть мне в правый висок, как в нору, робким, сорным рефреном приваживая сюда, к моему профилю, плавильный котел здешней долины, верандный барьер нашего общего дома под кровельным шиньоном и цементную дорожку в звездчатых прожилках, устремленную к миндальным деревьям. Правая плоскость и левая перспектива образуют крестик на экране, чье тонкое трепетанье под резиновым свесом ломкого наглазника рассыпается мурашками по коже: велосипедный финиш на кромке западной котловины, два пастуха с урюковыми плетками, задубелой, стоической въедливостью своих лиц ломающие пухлый горизонт (свободная даль, сказал бы Робер Брессон, – удел безбожника), – эти выкидыши его стереоскопического зрения, эти дольки всецело отгрезившихся низин, эти эльфичные заминки в его груди, травившие некогда ему душу... Он все еще вынужден видеть вокруг пустыри, желчные соломенные иглы в безуханных дувалах*, керамический бак на стенном приступке, арычный отвод, настолько давние, словно прошлое и архаичная инертность здесь никогда не выходили из моды. Он закрыл глаза, открыл, снова закрыл, будто его взгляд, метнувшийся в омут, успел повернуть вспять с края пропасти. Молодой альбинос прошествовал с запада на восток мимо съемочной группы, мимо скалистого портала и перечеркнул снежную вершину, сам, казалось бы, выношенный и отпущенный в путь бдительными снегами ледникового плато, и белый горный Апис наблюдал с небосклона, как он теряется рядом с нами в знойной дымке, точно погружается в стеклянистую внутренность бесплотного булыжника на проселочном спуске между вспухших чайных кустов, заставляющих вспомнить женские прически эпохи Директории, и ты открыл глаза. Внизу, на панически твердых полевых камнях, воспламенялись визги слизистых скворцов, буквально улавливающих в твоей кинокамере стерильный наезд, zoom in, нацеленный на истероидный пернатый сброд. Немного позднее на том же месте перед наружным простенным панно глиняных строений он обращается к тебе: джахон*. Зов старшего брата, знакомый нам с детства на фоне неизменной декорации – приплюснутых палевых зданий одноэтажного квартала или уплощавшей субботний ландшафт пригородной духоты 68-го года, в которой короткий луч на минуту зооморфно выползает сквозь вакуумную пасмурь и тут же прячется, как черепаший клюв, под шпалерный панцирь среди виноградных лоз, что высились над вами и походили на скрюченную, нежную нежить без недр. В накаленной синеве тогда висело только одно облако – оно не плыло по небу, но лишь бликовало изнутри, как на потолке светлое пятно от зеркала, лежащего на полу в продуваемом коридоре в летний полдень. Взрослые куда-то делись, пошли на фильм Тати, еще не зная, что он не понравится им, – и вправду ради вас наступало "время развлечений", наступал июль с такой ясностью, что ты мог без усилий извлекать ликующий покой из своей личной магмы. Дряхлая урючина, спиленная твоим отцом годом раньше, валялась в изложнице двора, запнувшегося в древесной тризне. Так быстро увеличивалась (почти усложнялась) скука напротив вашего длинного особняка, что рахитичные закоулки, оставленные грузными, воскресными грызунами на галечной площадке, угадывались четче, и бледный велосипед был явственней, чем в любой другой сезон, прислонен к побеленной стене – декадентский прием, годный как раз для сочного затемнения. Ты слышал глазами, как мухи скакали по родовитому дувалу, чья сыпучая глина издавала вкрадчивые шипящие звуки от обжигающих касаний черных лапок, и вы уже в тот период, невзирая на свои 13-14 лет, инстинктивно были на стороне бесстрастности и наслаждались татищевской цикличностью "пустого досуга", но через час во двор вьезжает молочный (по тем временам) автомобиль ваших гостей, трясущихся от жизнелюбия, в чопорно-гнилостных финках*, и друг отца треплет вам волосы, "типичные индоарийцы": слащавый мираж отзвучавшей реплики, неслышимой на улице, где мальчик швыряет свинцово-шерстистый шарик с непростительной меткостью в осиное гнездо под нагроможденьем бревен и бросается к пшеничному полю, бежит мимо тополей, мимо сутулого продавца цветов с тележкой, набитой орхидеями и букетами астр, мимо не смеющей защитить его мусорной свалки и вопит, поскольку мохнатые комочки, брызнувшие в сторону, настигли его вдали, перед колосьями, ждущими жатвы. Солнце сквозь жаркую туманную взвесь и лиственные миазмы напряженно сузилось в зените, словно ты смотрел на свой правый карий глаз в зеркале, и лучи струились сквозь эфы резного барьера, украшающего веранду, и обильно клеились к дощатому полу, венчающему как бы ширину вашего дома. На коленях его брата, устроившегося на садовой тахте, раскрылся Павезе, 227-я страница, всемирный потоп дневного света на туринских холмах тридцатых годов. К тому же оса садится на раскрытую книгу, на "Граппу в сентябре" – камера панорамирует текст ровно столько секунд, сколько зритель читает его, и, дойдя до восьмого стиха, ты произносишь: "настала пора, когда все замирает" – и подносишь палец к стихотворению, чтобы усилить отчетливость шрифта, но желтое насекомое взмывает, разъяряя свой лёт, и бьется о настенный ковер, который двое юношей в начале прошлого столетия ткали в тесном патриархальном подворье, вытягивая из девяти коконов тончайшее волокно толщиной в паутинную нить. Но сегодня, миновав в мгновение ока тридцать лет, ты стоял на террасе у входа в коридорную мглу с рыжеволосым другом (пэдди его кличка), с которым вы совпадали по смуглости, и баюкал между пальцами левой руки спичечный коробок. Твой брат закурил и тотчас погасил сигарету о верандный щебенчатый щит, на который он отбрасывал тень, словно потушил собственный жест запоздалого курильщика, когда мужские голоса раздались сперва в столовой (третье помещение после передней), затем в зале, и пэдди поворачивает голову вправо (конь, накрытый муссоном) – влево (мальчик в шортах амарантового цвета, перешагнувший в рапиде через спящую кошку на нагретой солнцем кирпичной ступеньке), как в мечети, примиряясь с теплой близостью инобытия и ангельских десниц за его спиной, бесплотная жердь, на которую насажено его существо целиком в клетчатой, замшелой рубашке. После чего, как неизбежность, они смещаются в коридор, пять-десять шагов, и ступают в затемненную полосу, в темноту, куда вслед за ними плывет камера и выныривает на освещенную часть комнатных углублений, выкатываясь из домашнего мрака раньше тебя и пэдди и увлекая вас за собой, – поэтому создается впечатление, что мужчины, прибывшие на фургоне, шествуют назад, на улицу, где их встретит машина у синих ворот, хотя в действительности они направляются к двустворчатой двери и распахивают ее, очутившись тотчас (так моментально, что не знаешь, был ли тот момент, когда, например, после мрачного путешествия, после разочарований, усталый, выпотрошенный безответной стылостью ненужной поездки, ты возвращаешься домой – попадаешь в опрятную прихожую, продвигаешься глубже по мутно-бурой кухне в холодный холл, толкаешь последнюю дверь слева и входишь в свой кабинет, что залит солнцем, словно снискивающим ворсистые и шелковые шилья лоскутного покрывала на мягкой мебели, и млечная маккия, как в юности, зебровидно сверкает на диване и в креслах) в проветриваемом зале, в зоне явной белизны, и перед ними застыл обычный среднеарифметический незнакомец – он приник лопатками к отражающей рассеянный свет стене, погрузив руки в карманы мешковатых льняных брюк и подвернув под себя правую ногу, которая ступней уткнулась в узкий, выделенный мелом бутафорский выступ на уровне колен (смахивает на одну из работ Бойса, думаешь ты, на "Киноплощадку", если не ошибаюсь, выставленную в крошечной галерее в Шафхаузене); хозяин дома (мог быть другой) пел песни маргеланских купцов XVIII века в манере Фахриддина Умарова*, сидя верхом на стуле (настолько сиюминутна рискованная необязательность этой позы, что она должна непременно повториться где-то в дискретном и ватном течении разных эпох), сплошные агглютинативные всплески двусложных глаголов, сжатых до опухоли в горле, решимость к действиям напоказ, плотный перфект, безречие речи. Как всегда. Сквозь стынущее в мидлдей наклонное марево барахтается пустырь с бумажными клочьями, что корчатся в огне, иссякают в пепел и, сметенные с лица земли, свиваются с ветром, но пламя продолжает пылать, снова и снова сжигая себя на пустом месте: варварский аут, сторонящийся съемок, будто лишь в тебе сосредоточилась вдруг общая воля всех лишенных собственной истории. Четыре человека в гостиной (могли быть другие) вдыхают комнатный воздух около двери, скраденной наполовину атласной ширмой, – у них никакой вид, как у джадидов, заключивших пари в мраморной чайхане Кокандского ханства. На оконном экране никогда не взрослеющие воробьи, монохромно очерчивая нимб над конусом тополей, сквозь сито своей стаи свистели "свят, свят, свят", и на заднем плане смутно роился снулый флэшбек: молочная машина друзей вашего отца, уже воротившегося домой из летнего кинотеатра на открытом воздухе и умершего в восемьдесят пятом от сердечного приступа, отъезжает в извивистую глубь глухого района, уменьшаясь до коралловой букашки, что, потерев лапками, спрыгивает с дверной перекладины и возносится ввысь над бельевой веревкой. Как прежде. Макс Брод и Варий отказываются, и "темнота падает на Грецию, как нож", и кишлачная девочка в бахромчатом платье, повернувшись спиной к речной мельнице, мурлычет блюз вместо вокалистки Джефферсон Эйрплэн. С этими двумя ничего не случится, двое других спустя час после чаепития покинут дом, где были когда-то счастливы, – ищейки, чье имущество содержит в первую очередь неопределенный эпос их психофизической отчизны. Сотни насельников долины скинулись по одной магниевой вспышке и оставили собранное здесь, на холме, на этом атавистическом клише нудного юга, думает он в самой дальней части западной низменности, – в буйном пекле скулит собака, воркует шиферный голубь, и затвердевшую пыль в стерне сверлит длинная дрожь послеобеденного блеска на пляже у долинной реки. Он опять закрыл глаза, словно смотрелся в зеркало внутри себя. Итак, увиденное просто течет и потом исчезает, думает он, как, скажем, в брессоновском эпизоде, Le diable probablement, и поймана рыба, переливающаяся Спасовой раной на крючке, но вы продолжаете верить в своего убитого бога, – недавний альбинос, глотая на ходу отфильтрованный светотенью кислородный корм, идет обратно с востока на запад к уличному повороту, где за углом чинно огибает свою глиняную дугу дувальный клапан высотой в средний женский рост, замедляя вращательное движение перед провалом в петляющую долину. Там, далеко внизу, в иллюминированном вихре, как облетевшие листья, кругами парят велосипедные пары, и за главной дорогой, под вами, по луговой доске бредут два пастуха, лучистые под небом старики, скрещеньем бровей перебирая животных, как четки, и пропуская их мимо себя к жирно растущему вверх разнотравью, – время от времени овцы на внезапный миг искусно цепенеют, уязвленные неподвижностью несметных растений, и вновь толчками трогаются к плодной цели, перевитой постным сходством июльских терний. Фергана, 2004. |
В дувалах* по-прежнему белела печать мясистых, доисторических молний, как если бы ты имел наглость быть собой, – кукуруза, обжаренная в очажной золе, и белки чьих-то глаз отсвечивали перед черной мебелью. Близнецы в то утро напевали Оду Венере Чеслава Немана, одного сердца так мало, или под рваные вирши складывали слова из дядиного краковского календаря, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, отскандированные сто раз их губами за восемь солнечных месяцев, за весь монотонный сезон. Она кусками красная, суша, от клочковатой продавленности. Несколько продольных микробов попали в освободившийся для них отрезок дневниковой бумаги, и сбоку хрустел целлофан, прослоенный плавностью, с какой его бросили в угол минутой раньше. Мун снял очки, он шумно дышал, надеясь узреть хотя бы интервалы своего дыхания, чье острие петляло к рельефно тающей фигуре моего отца между холмами; всё прощает всё. Его силуэт (о чем мы спорили с братом вчера?) мигает на фитильной тропе. Я нагнулся, чтобы поднять палку с земли, и, хотя в моем движении нет угрозы, воробьи, затаившиеся в кустах, брызнули вверх, испуганные собственным порывом. Одновременно его сыновья листают журнальные страницы – знакомый рай, вернее, сплошная ответственность. Я делаю шаг и натыкаюсь на суженную мазарскими* воротами надпись: когда говорят о человечестве, имеют в виду умерших. Утренняя могила в долине, роса склонилась над отсиявшей ночью, влага быстро сошла с агатовой шкуры безгнездой змеи, свернутой "бухтой", и жестяной полумесяц трепыхается от непорочных пар допотопных лучей, двуструнных уз, подоспевших в четверг, вместо фестончатого изголовья, накрытого старой шотландкой, но глубже, под ворохом выползней, круглится камень, вмурованный полгода назад в царапающий слезные мешки ненужный мрамор. Ты держал в руках двойной альбом Альберта Мура и, как во сне, не смел его раскрыть, словно дерзнул бы листать бескровные глухие раны под ребрами больного друга. Кстати: когда он мысленно стоял на бельведере в Остенде, наблюдая субботний улов, что бился в сетях, на коленях жилистых рыбаков, и одышливую морскую пену, приваренную к парусникам, Хасан-Хусан снимали фильм в Исфаре, и ты был счастлив, что братья погружены в мир, ослепленные собственной смелостью, – мать уже вечность лежала в бешболинской могиле, и две девушки перерезали свет внутри жары мимо пригородных ив. Как им это удается? На зеленом асфальте весь полдень сушится шелковый клок – вот "оно" помогало ему, ощущение добрых иррациональных намеков, теплота средней дистанции. Те же улицы в карликовой белизне, те же тощие провалы с тутовниками между саманных лачуг, где в песчаной кладке торчат полузарытые глиняные радары осевших мазанок. И ты спросил его в семейной библиотеке, отдающей росной терпкостью, дядя Мун, что вам не нравится больше всего? – горы, свадебные песни, романы британского рабочего класса, крики молочников зимой. Близнецы слушали музыку, и щелкали пальцами, и тискали чешский журнал, авторы статей Петр Дорушка, Ярослав Навратил, Яромир Тума, червивые ссадины конкретного зноя плодились по огрузшей магнитофонной ленте (на этих струистых угрях точной жары читались уличные бороздки, в которых шарили дорожный указатель кривые крылья пухлых птиц, овеваемые своей разноперой невесомостью, – мелочь небесных предметов легче внизу?), и он ответил коротко, быстро, будто клейкий жук величиной с караханидскую монету заполз в дверную щель, и газеты на журнальном столике забиты словами о вещах, невозможных в этом городе из-за испарений и фактуры вашей долины, – бунт, Моби Дик, причастие, маратхи. Но Мун теперь смотрел на дорогу, а ты на отца, идущего по ней, – кто-то растворился в однотонном пекле низким пружинистым рывком и выскользнул вдали, у бетонной черты, карабкающейся к покрытому рыжими камнями холму, где узкоглазые девушки... Ты тоже щелкал пальцами, когда в твои барабанные перепонки, не ведая своего назначения, бил взмывающий к потолку громкий бас, и на развороте грэндфанковской виниловой пластинки плескался, не источая себя, поясной портрет Шачера, Брюэра, Фарнера – везде гипнотическая помеха, сказал дядя, E già zampeggia il ponte, но глаза его блестели, и ты на секунду ощутил, что это вовсе не метафора, когда говорят, в зрачках сверкает весь солнечный край (тут он в трансе начал рассуждать вслух о сумерках Ферганы, о середине Юга, о тюбетейке, роняющей черноту перечных арок от остывающего мелькания сдавшихся створок, что хлопают в разных местах), и близнецы слушают Мальчиков революции несчастного Болана и Born to Die, вряд ли похожие на своих тезок-мучеников. Из недоверия и жалости рождается боль. В следующую минуту он пересел в соседнее кресло, в тень, и закрыл лицо ладонью – так актер закрывает лицо руками, чтобы нечеткость фокуса на переднем плане была заметной. Затем рослая риштанка*, всплывшая оттуда, из повторяемости созвездий, – она погладила брови розовым перстнем у платановых столбов в поперечных зарубках, у свадебных ворот, где мужские пары, вкопанные в краски ветреного лета, ломали надвое, как лепешку, свою андрогинность, но Мун записал на его локте названия пяти фильмов, Дерево для башмаков, Солнце в лицо, Люди и нелюди, Путь домой, Сирокко. Итак, множественность случайных даров, излишество как предупреждение и вдобавок уход, сулящий исцеление, – весь вид просматривается до глубины с яркой статуэткой, удерживаемой долго скрюченным куполом высоких деревьев, застывших, как часовые, которым только что сделали обрезание, и мы радовались, что радуемся чужим радостям и озарениям на пленке, и духи поощряли нашу склонность к бесплодию, к неудаче и поражению, чьей тяжестью мы бы ни в коем разе не поступились. Совершенство для нас числилось в замысле и не осквернялось пока натиском осязаемых воплощений, которых кругом имелось в избытке, то есть мы вели себя так, как если бы задолжали заранее своей свободе, чей вердикт гласил, что путь наш тускл (золотистые парковые коридоры молодых снов, нетронутые на скатерти в чуть сносной полутьме сушеный урюк, изюм, орехи, фисташки, непригодные для еды, как водится в кишлаках и в крайних кварталах за городом, – здесь же, внизу, ползучий куст прильнул к пыльным комьям, как загорелый юноша, которого пнули по яйцам). Назавтра он проснулся, опухший от горящих в его мозгу несостоявшихся фильмов, Ольми, Эсташ, Тарр, Каст, женщина среди выживших ритуалов и лучащихся бактерий касается кончиками пальцев его шеи – в общем, "не есть ли объятие подобие вечере?". Кто-то рассыпал по бревенчатому столу черно-белые фотографии: осенний пиджак одного из Джакометти на швейцарском франке; умирающий Глаубер Роша и рядом, в изножье больничной койки, седоусый бразильский писатель, рука в руке; собака на ослике и крестьянин в берете на снимке "Таррагона" Ханса Баумгартнера. Всегда в такой обстановке появлялся сосед, фиксатый анашист по прозвищу "сводник", прятался в запущенном дворе, курил в кукурузных зарослях и пропадал, или незнакомец, чей мотоцикл часами молк в стороне под кирпичным барьером около самшитовых сучьев, бормотал голосом пятидесятых годов о погоде забытым людям, направляясь с ними в столовую мимо спекшегося крыльца, или местный житель ровным шагом очерчивал торговую площадь, за ним торопилась жена, и по его манере идти было видно, что она беременна. Потом из-за точности воспаряешь, отслаиваясь от копьевидных комнат, полных буйных бликов. К тому же в разных участках города жили его друзья, три бухарских еврея с главной улицы, уйгур, два крымских татарина, все смуглые от вечной серости надвигающейся духоты. Что он думал о других, о другом, кем он был, ненадежная аллегория то инфантильных побуждений, то зрелых возвышенных провокаций. Близнецы под урючиной возле крепостных перегородок взирали на север, в сторону Маргелан-сая, в котором они, обагренные скукой, принимали "крещение", и над их плечами пищали чайки, защищая свои гнезда на речном островке (это место твердило, ты не был на похоронах своего двойника и на похоронах того, кто его обмывал, глухонемого с татуировкой на запястье), где вырос гонимый собой смерч, смесь лени здешних людей и дуновения, плавящего грудь, и доплыл до винтового торса полевой башни, хотя днем раньше ты читал Харриса о саваннах и никак не мог вникнуть в роман, пока не вспомнил фильм "Сидящий одесную", пока не нашел вест-индской легенде в своем воображении топографическую пару и оптическую опору, и Мун сказал, так бывает, такая незаинтересованная включенность в мир, когда все дышит волнами ровного счастья. Но: не сделать, не сказать, не проявиться – значит не упустить свой шанс, когда кульминация наполнена нормой, и не осилить счастливый заслон, в котором пластаются распахнутые реминисценции и непреодолимое не связано с шершавой низиной вверенных всем ограничений: всадник во французской королевской коннице в алом мундире, берущий под уздцы лошадь сквозь фламандский дождь, или арычная вода, чем слаще голос, тем глубже рана, шипы иранских роз, или каменистая сушь центральной Ферганы и пустыри, от вида которых начинается чесотка в солнечном сплетении и в затылке – четкая магма во славу безродства и поэтической неизвестности вкупе с публикой, причесанной, благоухающей, мытой, берегущей вонь для своих могил (или пеналов, добавил бы западный поэт, великолепно знавший смрадную нищету и пурпурные закаты тысяч азиатских городков между двух войн), и смуглые женщины слоняются по кухне или укладывают детей спать, укрытые в южном холодке, безликие и нежные в пасторальном эгоизме, и сдвоенная струя над пепельницей вьется, уползает в бездонную полоску, отчеркнутую чьим-то исчезновением, а дальше обширная ось в арочной глуши, она стает, когда забрезжит цель, – после дымо́к, пряча снежный пик, жмется к песку, к трупу зверей на оливковых плитах, к оскалу их ртов в обеденный час, и проще безверие не просит платы: эсхатологическая запись, сожженная в лихорадке бессонниц, свиток, рассекреченный огнем, что обещал нам преображение, когда мы прочли истину и забыли ее в летающем пепле, – ты поднялся с постели, уже не уступчивый дробильник бескостных галлюцинаций, с увлажнившимися от ночной усталости глазами, чтобы в полдень рухнуть опять на кровать, к обманчивым скитаниям, оглушенный истомой и боем часов, – отнюдь не герой, заменивший своего близнеца в античной комедии. Между тем Хасан-Хусан подарили дяде кличку Сеттембрини, и в его голубых глазах затевались елейные кретинки, если мы обращались к нему с просьбой растолковать нам сложные куски из "Ронды", из Пасколи, из Гадды, из Диалогов с Леуко. Все слишком тонко, только догадываюсь, что в Теореме Альфонсо Гатто потребовал, наверно, чтобы Пьер Паоло снял загиб сельского дома, крестьянские лица подле камней в окнах первого этажа вровень с землей и провал между стенных глыб, ставший лавовой тропой с диким деревом, от которого силилось мягко отцепиться закатное солнце, нетрудно сравнить этот план-эпизод с гаттовской поэмой Октябрьский вечер в Виттербо, "За стенами я увидел сквозь пыль пустынную улицу, / розовое небо в синей вечерней дымке", или вот, например, в одном фрагменте (мне легче написать заметку о саманидах, чем стихотворение) встречаются следующие пары – Сакре Кёр и красный камень, паутина и морской берег; Сакре Кёр, судя по всему, намечает уютную устойчивость, пассивную элегическую сущность, тогда как наделенный цветовой насыщенностью красный камень воплощает потаенную активность и живую жесткость, переходящую в противоположный символ: кровавое сердце Христа, Петр; паутина, как ни странно, высвечивает бесчисленные клетки и мгновенья динамичных форм, а морской берег, в свою очередь, означает героическое оцепенение, и коридорный потолок продырявлен, как отверткой, млечными мазками наружного гула и бархатных заоконных резонансов, будто все прочее иссякло в мгновение ока в лоне семьи: как он это называл, допустимое авторское насилие, – муравьи блуждали по вздутым отцовским зрачкам под моей ладонью в отцветшей долине. Вижу его в детстве, отца, сидящего на стуле в своем кабинете, вовсе не несчастного, но спокойного, отрешенного от ненавистного воздуха, от притворившихся пагубным видением комнатных предметов, от ребенка в шерстяных шортах у лакированной двери, впившегося глазами в его воскресные небритые щеки, в его полноватое тело равнодушного бесслезного демона. Сперва мерещился слабый и щадящий отблеск отдаленной любви, однако он оклемался – однажды встал с дивана, точно не бывало в течение трех недель иссушающей апатии, и вышел на улицу к обычным заботам. Отныне весь его внутренний подвиг сводился к тому, чтобы знать, что иногда случается странное смещение в знакомой атмосфере, в которой улавливаешь тотальность сущего, и этого было достаточно для его жизненных сил. Что касается дяди, то он часто чересчур эмоционально откликался на происходящее, чтобы доказать себе, что испытывает кайф не только в собственных фантазмах. Он закрыл глаза и сжал губы – можно подумать, что ему хотелось аккуратно отлепиться от сквозняка, в котором мулла нашептывает в его уши озон, твое земное имя, как младенцу, и на целый июльский час его облик заволокла далекая приторная амнезия. Иногда, снедаемый нежной благодарностью к безличному, думает он, угадываешь везде и в будущем родное путешествие, но с каждым разом чаще на меня обрушивается мнимое влечение к внешним обстоятельствам: когда их нет – невероятная ясность, когда они есть – гуд и месиво конкретных заданий без густых утешений из глубины вещей, и старик на рыночной доске в Янги-чеке* сворачивает в бумажную трубку для насвайных* зерен колючие страницы "Принца Гомбургского". Я иду дальше, о чем мы спорили с братом вчера (прежде чем я послал письмо австрийскому другу, передай М., что она единственная женщина в моей жизни, которая действительно поняла меня и полюбила во мне то, что я есть, а не выдумала какой-то образ, свою собственность)? Что скажешь, он сидит в кресле и следит за мной с балкона? Зорок и тих, слеп и болтлив. На Шведенплаце я познакомился с ветераном молодежного движения, сегодня тот согласен быть актером в Драматическом венском театре, играть в скучных пьесах Грильпарцера: прокололся. Он сказал, ну и пусть; поколение шестьдесят восьмого, спрашиваю я, изменило жизнь к лучшему? Да, отозвался он, эти чуваки изменили нас; я парирую, и сделали более жесткими и безвольными – нет уже тех коммун, тех струящихся субтильных тел. Он уснул в кресле, и ему приснились слова, немыслимо белый обзор, доброе знамение, последний этап любого микрокосма и твоя сила в отказе от преемственности. Я иду дальше, против меня снизу расстилаются хилые, обескровленные, точно секунду назад вынутые из книги крошащиеся цветы, и в глаза буквально лезет мешанина строений, чьи крыши на манер коленьев бамбука то поднимаются, то спускаются в долину, и перед каждой постройкой выдвинут вперед, как предупредительный знак, либо фонарный столб, либо колодец, либо водопроводный кран, либо покосившаяся повозка с одним колесом. В неровном порыве низкой жары фигуры троих (мужчина в белых спортивных брюках и две девушки в красных платьях), сойдя с автобуса, спешат к овальному водоему, и мальчик у колодца садится на пустое ведро, перевернув его. Тем временем за моей спиной движется давно отслуживший товарняк с натужной медлительностью, словно продолговатый кусок этой окрестности, отделившись от нее, судорожно раскачиваясь, тащится куда-то, и уже не существует никакой разницы между вагонами, по-своему стремящимися в даль, и ничего не значащей чередой элементарных движений: трепетом водомерок над канавой, вялым жестом ребенка, мушиным колебанием листьев, тремя исчезающими фигурами в начале холмов. Кто-то открыл дверь и вынес на дорогу обмотанный вокруг его плеч запах курящихся в стрельчатых нишах лечебных трав. Луч черного хлопковоза упал на подоконник и смазал его склон, высветив мурашей на двух занозах, – смачный поворот неба, что непременно выищется вблизи. Благоухающий зал, дымящийся сорняк на металлическом подносе, паутина в жгучей, мшистой лепнине, немного вогнутая, как кожа под губами толстых хасидов. Мрак рассеялся, и на земле остались лежать лишь тени скамеек, как вырезанные солнцем прямые дольки царившей здесь недавно ночной темноты, – теперь он читает книгу и замечает паранджу, упавшую с настенным гвоздем на дверной порог, серее кишлачного лица и похожую на морщинистый контур шелковицы сразу после того, как затмение отхлынуло отсюда, и мой отец идет в сандалиях сороковых годов, заслоняя ладонью лицо от речных брызг: на юге зов не может быть безответным. Даже на холме блещет река, сай* вертится, вернее, течет валетом, и вьющуюся водную сцену прожигают его глаза, в которые проникло солнце сзади, просверлив ему затылок. Так всегда в корявом, звездчатом селении, сбирающем, как магнит, пыльный эфир. Как это сочеталось в его сознании – выжженные полевые всходы в сушайшей котловине, настолько легкие, что он слышал их шевеление, или небосвод, возвышающийся над лиловым руном равнинного волкодава, и вместе с тем роистые скачки летней луны, покидающей окно в фильме Брэкиджа, или герой, кажется, в картине Каста, целующий книгу страница за страницей? Он восседает в плетеном кресле, Мун, в ясельной оправе дощатого балкона, замкнутый, языческий монолит в клетчатой рубашке, и порывается временами спуститься в сад с плитчатых ступенек просто теплотой взгляда, намекавшего на стекающий с тандырных* лепешек горный мед... Он вдыхает плодоносную медовую зыбь, полную фригидных близстоящих домиков, срубленных прошлой зимой урючин, черных велосипедов с тонкой цепью в форме крестного знамения между педалями, и в его боковом зрении меняются местами водопроводная пленка, безголосый удод на галечной полосе, вернее, чем прежде, означающий удаление и старость, и застланная ржавой плесенью трехстенная кузница, в которой он знал в лицо каждый каменный куб, – совершенно нормальный момент, когда нарушаешь скорость, чтобы включиться в движение к сердцу всех братьев и к морю. По арычной кайме словно разметаны кровь и слизь, изображенные кровью и слизью, но это раздавленные тутовые ягоды перемежались со своими тенями. Il porto sepolto, обычный эпизод, поглощенный моментально безвестностью, как положено в провинции, пока слышны редкие реплики сестер своих сестер в чачванах, как циклопы, на фоне липкого, монохромного предгорья, и личиночные поры осыпаются на ясные судороги их смуглых икр. Ваш фиксатый сосед, говорящий (говоривший) на наманганском диалекте, устроился на фисташковой циновке (уличный друг, освещенный солнцем в центре каникул), не молчаливый, а безгласный, и глядит, как пятно света переползает через спарившихся стрекоз на ганче*. Ты пересек переднюю, сказал, доброе утро, и подошел к письменному столу, чтобы взять коричневатый узкий блокнот – ricordo di Milano, album di 18 cartoline illustrate, – который твой дядя использовал вместо закладки, когда читал статьи о Кроче в то свободное лето. Но гость, зашедший к вам позавтракать, поправил левой рукой седеющие в июльских лучах волосы, почти демиургический поступок в такой чистый день, и над столом слегка дергалась его широкая дымчатая рубашка с воротником-отцеубийцей, даже с годами не теряющим цвет – бежевый. Братья, они беседуют обо всем друг против друга, и между ними корчился от смысла их слов живучий винт солнечной пыли, дотягивавший с оконной крестовины до коврового пола, и отскакивал обратно через створку, наружу, где горбатый баптист в шестьдесят седьмом пытался возле вас, купавшихся в саю, повеситься на иве, и подростки сняли его, полуживого, с ветки, бросили в канаву и стали ссать ему в рот и в глаза, смятые слезами. Да, он скулил, бейте меня, и вожак в сиреневой футболке, уже усатый и самый свирепый среди блатных сверстников, поймал тебя, убегавшего по полю, схватил за волосы и поволок малыша, как тачку, по стерне, по навозным кристаллам, на́, смотри, жри жизнь, и за рядами меджнуновых деревьев светлеет северный окоем, как пена двух жеребцов без седел. Какой крепкий, сказал кто-то из них, дохлый номер, и двинул ногой лежащего над цветущей твердью в скулу – тут же улетучился мираж почти настигнутого насилия, но жертва, вытянув шею, улыбалась пяткам своих спасителей, спешащих по берегу кто куда и редеющих от обилия моментов и вымыслов, лютых и запутанных в тогдашнем ручном настоящем, в косом безветрии ферганских окраин. Что за урок? – у каждого он есть. Отстраненность, которая удваивает неизвестность, и всюду сторожила себя единственно значащая масса ничего не значащих скольжений и остановок, и в азиатском вакууме натянуто наконец-то учуянное метафизическое ворчание, претендующее на то, чтобы охватить эпоху. Куда же ему деться, захлопнутому во времени, и никакой сверхъестественной опеки. Но ведь он что-то помнил, – тыквенный футляр для чаши с колодезной водой в холщовом мешке вуадыльского* всадника, объезжающего луг ленивым галопом, серьги с подвеской, нагрудное украшение, бронзовый портсигар кувинского царька, желчные жуки, ворочающиеся в корневых волокнах, как ожившие плевки прокаженных, снимок Мэри Хопкинс, гравированные пуговицы-бубенчики и янтарная уховертка. Еще этот бурый бык в его юности, как скульптура застойного сумрака, сосал воду из бассейна в грузном, колдовском тщании, попирая цементный урез, и многообразие мира испытывало перед ним мандраж, но близнецы пели песни ранних семидесятых о людях, дремлющих в тени Истории, об Англии, проданной за паунд. Я иду дальше, вершина хранит хинный хаос виноградной плантации, о чем мы спорим? Читаю ему отрывок из статьи одного эстетика – перед нами не психоаналитический выплеск, не версии одинаковых конвульсий умных духов, но пластические вестники условной близкой близости, которыми ты запасся, и в то же время вокруг назревает возможность щемящей аристократичности, настолько потаенной, что она ждет от своей ненужности больше хорошего, чем плохого, и надеется больше на Суд, чем на судьбу. Что он имеет в виду, спрашиваю, что-то конкретное? Смеется, не знаю, вероятно, спасение души, многих искушает мысль, что там, вне декалога, осталась неисчерпаемая тайна и множатся горизонтальные этажи индивидуального царства, личный невод для грядущей неги, ничего подобного, вот она, альфа и омега, серая, нейтральная, нулевая схема, никакого богатства, никаких излишних действий, никаких успехов, минимальные усилия, угодные небесам, еда, одежда, дом. Брови бабочек-привидений, стремительно и сбивчиво неподвижных на уличных стенах, женщина с узелком на голове (лицо стареющей музы английских сердитых) окликает женщину с узелком на голове, муляж в поминальный четверг в продуваемом весь год проулке, где прилежно и чеканно дрожат мозолистые тюрбанчики пастушьей сумки. Ты вынимаешь свежую бобину из квадратной коробки и бледно шуршащего целлофана, чья душистая кислота, превращаясь в пахучий накал, сразу льется в ноздри братьев-близнецов, Grand Funk, слишком ранний июль (ему снились строки Амири Бараки, у которого Хандке перенял название скучной повести и страшного фильма – "внутри белые, снаружи еле держатся на лошадях"). Никто не знает, лето, 1973 год, польщенность от неосвоенных встреч. Марк Болан, ты думаешь о ком se mluvi. И вскоре – Marc Bolan píše zajímavé skladby. Někdy znějí jen na vás, co si vyberete. Bolanův hlas je pozoruhodný. И вскоре – možná, že se tento styl začal Bolanovi zajídat – a bylo by to přirozené, protože na třech albech nahraných s akustickymi nástroji asi vyčerpal všechny možnosti, и все еще виден отец, идущий к покрытому рыжими камнями холму, где узкоглазые девушки в губчатых босоножках и в атласных пристяжных рукавах опыляют виноградные листья. |
Старый радиоприемник, забытый с 61-го года в стенной нише передней комнаты, издает рыхлый гуд уже в семь утра – на сей раз судья объявляет: панчер такой-то, – декоративный рык или хмельная хрипотца, в которой прозреваешь что-то предохотничье, бородатое, красно-кирпичную шею, гаагскую знать, мшистую броню лукавых сокольничих, плоеный воротник, уложенный горностаем. Устроились тут с рассвета и нудно рассуждают о слове – на резном топчане, застланном ковром и двойными стегаными одеялами в атласном орнаменте, примостились впятером в дымчатую рань, когда брезг бьется на ветвях, – почти непереводимом, "камбагалпарварлик" (узб.), бедноскость, ручательство за бедных, францисканцы вскрикнули бы пронзительно, бедностьковедение, щедроты знаний о бедности, радение о бедных, истязуемый оттяжкой целебной бедности, льстивый алфавит бесцветных лишений и т. д. Там, снаружи, удаляющийся вглубь отлогой, бесхозной поляны мышиного цвета вельветовый камзол уменьшается, скандируемый и подтачиваемый наклонной ширью родительского двора, что завершается в коленчатом спуске меловой насыпи крайне запущенным луговым участком. Садовник? Отсюда в придачу (с дощатой арены перед застекленной террасой, смахивающей на столовую) более восьми минут слышно, как скворец где-то в шиферной впадине соседнего дома тщится мухлевать под щебет огненной сирены, с дивной пунктуальностью в один и тот же час на заре высаживающей свои пурпурные перья на виноградной перекладине; ты выключил радио, включил, выключил, а кимсан* между тем вскинул голову и уставился туда, на утолщение бурой лозы, пробивающейся самым крупным плодовым сколом сквозь чешуйчатую поволоку фруктовых деревьев. Потом все перескочили без нажима на генеалогические идиомы, кроме одного, что сейчас склонился над линялой газетой, перевитой крестословицей, – чтить сонм фамильных ликов, говорит, вовсе не значит (брат, первый, отца), что нужно позарез помнить всех назубок до аштарханидов или... Начинается, думаешь, очередная сновидческая экспедиция к перламутровым предкам, наши эфирные советчики, укоризна меткой совести, масляный светильник, дурманящий бабочек, алюминиево-стерильная посуда европофильски настроенных визирей Кокандского ханства, донный бальзам вымерших именований на страх вольнодумцам, их альков, превращенный сегодня в гоночную машину с откидным верхом, эта изразцовая рака либо те бесслезные мощи, сбрызнутые сулемой; какая-то новая дядина маска в "кротких" морщинах, думаешь, притаившийся мученик, и два лемминга в твоем мозгу метнулись, как адамиты, по полевой пыли к овальной отдушине летней кухни, расположенной в крайнем крыле трехарочной, длинной веранды, – бывший битник, думаешь, ныне в дидактическом муаре, нелепый, как кюре среди серых музыкантов в оркестровой яме какого-нибудь "Золотого века", шуршащего на черствой пленке в древних царапинах. Полагаешь, что ты и есть нынешний Мерумени, говорит, – впрочем, тебе не двадцать пять... "мать не встает с постели, на ладан тетка дышит, а дядя слабоумный", да? Первый, как никогда в самый раз и весь доверху нагрянул сюда, к своей заметности, – найдется наверняка и второй, такой же (братья умершего брата) книгочей, с такой же искусной, телепатической сейсмикой, друзья друзей, родственные узы, впятером, порой всемером или вдевятером собираются во внутреннем дворе возле саманного строения всякий раз безошибочно в конце недели ради традиции промедления, свойственного югу космополитичного типа. Вдобавок создается впечатление, что эти персонажи не приходят сюда, но остаются на одном месте (намотанные, как в марионеточном сеансе, на меридиан реликтовой тахты), то истаивая, то возникая в обжитом ими до скончания дней ландшафтном куске, словно зооморфные существа Владислава Старевича. В общем, медвяная манера вуалировать увиденное, прикинувшееся тягучим иносказанием мемориальных божков, ретроспективной, жгучей мифологемой, на деле сполна выдает исконное задание мужского гяпа*: не хаотичные собеседы субботних сходок, не чинный нарциссизм обильных разборок ни о чем, прерываемых чаепитием, а просто неистощимая утечка умалчиваемой сиюминутности, залитой солнцем. Чуть позже снова перед твоими глазами всплыли два давешних грызуна, метнувшиеся в обратном направлении, к полевой пыли, рыскающим топотком. Ты включил опять радио, выщербленное по сетчатым краям, но кулачный бой продолжался, правда, без вуайеристского вопля, – выключил; в таких вкрадчивых действиях кроется диковатая машинальность, что-то племенное, присущее только здешней микрообщине, – к примеру, взмах смуглых пальцев, двойным щелчком отогнавших внезапного шершня в тени хронической флегмы глинобитного зодчества: рядом с родительским домом через шестнадцать вмятин тупиковой площадки в дверной прорези столетней приземистой кибитки, словно сугубо напоказ осевшей в мучнистый гумус, маячат алые побеги круглосуточной пекарни, и сухощавые статисты кропят вогнутый зев пещеристого тандыра* хлестким выпрастыванием и тряской запальчивых, мокрых ладоней. В довершение всему, ваше родовое гнездо с уличной стороны представляется сплошь плоскостенным и бесстворчатым, но его скрытая половина, замыкающая въездную колею за входными воротами, занята верандой и тремя окнами, что, в основном, обращены на холмы, на пустыри, на гнетуще просторный сад, частично скраденный виноградной шпалерой на переднем плане, и твое боковое зрение то и дело занозисто трется о высокие чашевидные урны, что наполнены мерцающей в отдалении мутной водой, зыбким сигналом горной реки, особенно чаемой слухом в немотной, пригородной атмосфере пустой вакации. Но кто-то позвал? – женские голоса сзади в проветренном холле, в ароматном ичкари*, в занавешенных створах запретного зала. После чего следует полуоборотный огляд – кимсан, первый дядя, гость, отстегнувший газетный ребус от своей молитвенной близорукости, твое любопытство, вильнувшее, как вертлявая кукла, назад-вперед, и второй дядя поочередно выпрямились по струганому периметру нарядной тахты, образуя бойко-шаблонный заговор мужской телесной пластики. Дамы в пику им едва ли намерены отслеживать в повседневной гуще терпкий толк, предпочитая деланно безвредный, вышколенный речитатив, венчающий гулкую литанию и смех вперемешку. Но это ничего не объясняет. Всего лишь, отпылав, юркнули в омут еще пять часов, быстрых, как тепловой удар. Причем отовсюду скапливается ведренный столбняк. Восемнадцатого июня, говорит второй, 35-го года Рене Кревель... прервался, высматривает впереди тутовые деревья, наши каторжные ульмы, годные покою и не имеющие счислений, никакой прибыльной вести, никаких пылких дилемм, – разве что матовый росчерк снулой веранды засек рдеющую бабочку возле твоих бровей, своего рода мигнувший исход колористического трюка... Воздух (в точности как сегодня) был освещен однажды в минувшем веке в летнюю предобеденную пору, когда отец по обыкновению стоял на бревенчатом айване*, выскобленном и отполированном в дар бытовым амбициям главы подспудно меркнущего семейства: сквозь годы еле угадываешь отчий волапюк. Что это, вакцинация слуховых грез? Внушает братьям (двум), до и после завтрака, не подпускайте его к усталой пучине за окном, к этой ближайшей слепоте – получается, спрашивают оба, оранжерейному мальчику уготована утонченная идиллия, а нам преподносят холопское, наждачное обитание? – именно так, вы можете взять кетмень или заступ, немедля, марш, к угольному карьеру, но ему ни в коей мере, и все такое, ни йоты мстительной мзды, спустя сутки вдогон финальному напутствию его сразил инфаркт под виноградником – боязливо хрупкий друидский демон склонился над ним в грядущей вигилии (но лоза, просверленная минутой раньше кимсановским окуляром, вряд ли слезоточила, шершавая и чистая в бороздчатом сгибе, как если б левое запястье Мэри Моран покоилось в изголовье По, – есть ли надежда в ином царстве?). Да, нет, да, усердствует дикторское гуление (в который раз ты включил радио, хотя бокс прекратился), нарочито вежливо пресекая самоклеющую, затянутую реплику приглашенного профессора, ведь важно припоминание вещей, созданных до собственного возникновения... вы знаете, никакого намека на допустимую конвенцию... короче, непохожесть из неожиданных недр пресыщенного расчета, только она, рискует попасть в твой обиход какой-то вычурной правотой личного цветения, которого не ждешь, и т. п.; кимсан окунул тем временем ломоть лепешки в мед, обведенный ангобом парящей внизу керамической пиалы, под которой в зрительном центре бутафорского послушания, в издревле налаженной мирной устойчивости пласталась трапезная доска, упершись четырьмя тутовыми копытцами, словно тихий ослик неореалистичного бестиария, в битумную арену, чья поверхность, вероятно, еле противилась буйному прибою под собой, даже не геологическим глыбам, попирающим, по идее, элементарную геометрию какой угодно антики, – в глубине хтонического потока проплывали гигантские, не осуществившиеся места лавовой бесплотности, что спокон века стягивается в недосягаемую твердь и без перерыва хотя бы на беглый вздох оттесняет к темным горизонтам затхлой безвидности всякие стрельчатые гробницы, настенную роспись, покрытые глазурью колкие кумганы, сланцевые плиты, греко-бактрийский песок, обличавшие некогда доисторическую топь; кимсан улыбнулся, то ли привечая сладкий хлебец во рту, то ли внимая вялым рассуждениям двух стариков о самоубийстве, и со стороны его укромная улыбка тоже могла предстать разновидностью весьма прочной материи. Говорили, что оно, самоубийство, лишает нас возможности умереть, чересчур, говорили, страстный поступок, Плотин молодому Порфирию, из предпоследнего диалога Леопарди, нет, да, нет, ввернул второй, цитация, выбранная наугад из моих дневниковых отметин. Тут же крикнула птица: прыгнула с виноградной балки, перелетела через шиферную кровлю, через лоснящееся горячим асфальтом пустынное шоссе, молниеносно села по ныряющей траектории на бетонную вышку в репейной аллее за автомобильной трассой и сложила крылья, стиснув мягко свое дрожащее тельце пурпурным опереньем, что тотчас переняло солнечный окрас под отвесной жарой, – по всему видно, скворец до сумерек, до смеркающихся подворотен основался наглухо на седловатом темени водонапорной башни. Бойцовый птах (вернее, майна, воинственный принц или лучший эфеб среди бритвенно-коричневых вьюрков, невесть какими небесами удостоенный колдовской пестроты) не шевелился, как собственное чучело на шкафном, расседающемся, угловато-гнилостном выступе в краеведческом музее колониального городка, но сквозь его желтый, открытый клюв роились мутные, некогда (намного раньше таксидермии в клейких мастерских) объявившиеся на перси монохромных окраин водные лохмы вдоль фермерских жилищ в путаных желваках соломенного раствора, и шаткие лопасти речной мельницы в скрипучем, карабкающемся пароксизме взмывали над биллионом влажных, зубчатых минералов цементного цвета, над кастетным мысом галечной территории, будто ужаленные береговой печатью выносливой петрификации, твердым тавро доарийских, истлевших единорогов. Пять-шесть газелей все-таки вышли на террасу в ярких шифоновых платьях, и вы оглянулись в сторону щекочущего вам затылки пушистого смеха с такой беструдной готовностью, словно мерещились себе присочиненными к своей физической достоверности, – попались на благоухающий манок жеманных пятен, спускающихся с верандного крылечка. Каждый оглянулся на топчане, отвинтил свою шею по праздной дуге корпулентного тела, завернулся под седеющий, бакенбардный либо безволосый профиль, тоже опутанный пряным поворотом вспять, – проглотил наживку. Двоюродные сестры двоюродных сестер без взрослых родственниц, отдыхающих в ичкари для назревающих к трем часам пополудни исповедальных торжеств, высыпали во двор, отнюдь не афишируя, что им интересны артритные пугала в бликующем холодке виноградного амфитеатра, и разбрелись по саду в шнурованных кедах с кольчатыми пряжками. Жарко, вслед им крикнул второй, – жарко, повторила одна из племянниц, будто сманила с мужского лица шевеление губ. Тем не менее серны канули за пять-шесть секунд в лиственных щелях, пока на закраине обеденного стола трясся солнечный дукат; второй улыбнулся, углы его глаз, прежде миндалевидно дрогшие в зной, в пустом кабинете над книжной страницей, сейчас стлались смеющейся сетью к вискам; кто-то (первый?) раздавил спичечным коробком ползшего по инкрустированной спинке родовитой тахты пухлого паука, словно раздумал им обернуться. Ты закрыл глаза, как если б среда подсовывала не те вещи искушенному взору: влюбленные пары из шершавого Чере танцуют в стоп-кадре, влекомые на снимке тресконой*; мальчик в Los olvidados бросает яйцо прямо в объектив; Богоматерь подле детской карусели дает Мушетт десять су; не учтенные монтажной нарезкой черные кошки никнут к стылой и дробной кустистости предгорной равнины; футболист с экрана заносит бутсу над зрачками зрителя, успевающего заметить каучуковую рытвину в грузной пятке увесистой обуви, напоминающей с высоты птичьего полета набухшее антрацитовой жижей тектоническое вздутие, чей отсверк падает на корявую заболонь стволистого вихря за чертой двора, откуда неспешно и сутуло возвращается к вам загорелый садовник в мышиного цвета вельветовом камзоле с алтайской скошенной скулой, само собой предоставивший бритоголовым, наивно-гордым теням в прошлом всласть донашивать атлетически-сдобную походку индоевропейской породы. В сущности, никаких различий "ни по кандиям, ни по акинакам", слышен еле профессор, qazi al-quzzat* погубленной буколики, продолжается вполголоса бархатистая игра нашептываний впрок пришибленного радио, – ничейный сон, куда добираются степенные усопшие, вынужденные там легально блюсти свое строгое отсутствие как вещественное доказательство Воскресения; ты, выдержав паузу, выключил приемник все еще с закрытыми глазами, купающимися в игольчатой неге ферганского солнца; кимсан медленно поставил керамическую пиалу на скатерть, медленно-медленно, безмерно дивясь, что рука его движется, что до сих пор ему слишком везет. Рано или поздно мимо тахты прошествует садовник, запрокинув голову, без секатора и без приветствия с предательски-жалкой помпой выжившего маргинала, как бы силясь с аутсайдерски-желчной заносчивостью дренировать душевные закрома всякого встречного, или сдерживая в себе фрагментарные, апоплексичные наплывы растительного одичания, или всем видом выпячивая настырный намек, я подчинялся лишь хозяину, твоему отцу, теперь прощай, и направится мимо террасы, мимо зашторенных створ прохладного зала к входным воротам в залатанном вельветовом камзоле падшего монголоидного денди, швырнув на ходу урюковую косточку в дувальную* стену. Первый и второй, в принципе, устроились на пиршественном помосте по диагонали, непреднамеренно, локоть против локтя через комфортную дистанцию полуметровой стерни, рубцующей перекрестье лобовых взглядов, но ты (да и гость, и кимсан) буквально впитываешь немой, наэлектризованный клич их братского двойничества, будто они сплелись (на любом без спроса подвернувшемся расстоянии, в любых низовых сферах) извивистой, бессчетной крепью галлюцинаторных корней. Кто-то за луговиной и виноградной плантацией в шаркающих, лакированных калошах взрезает по пешей полосе микроскопические, млечные ядра взбухшей пыли, разящей иногда в ночном безветрии, в шатрах Кидарских, гадательной исчислимостью, особенно опальной рядом с членистыми колониями солончаковых изваяний, которые привились к одному уединенному участку, подальше от чужих глаз, как белошвейки. Кто-то, другой (другая? сестра покойного отца?), замер (замерла) поверх мужского позвоночника, в сторонке, и ты открыл глаза, словно поправил перед собой зеркало заднего вида, корректирующее женскую позу в арочном проходе безнавесной террасы, где гипюровый ворох мешкает около окна, наблюдая, как взбирается на холм грузовая машина, лучась от солнца стеклянистой смолой и колыхаясь за грунтовым охвостьем садовой оправы, одаривая сквозь тающее тремоло прямоугольных створ длинную веранду, столовую, напольный ковер, простенок, потолочную кору, словом, лицевую обойму обширного дома искрящимися зарубками, сторожким уползанием фитильных фотонов в коридорную перспективу. Затем женщина спустилась с верандных ступенек, приблизилась к виноградному гобелену и, не обращая на вас внимания, позвала племянниц так тихо, будто окликнула себя в июньском блеске, но немного позднее, когда минул семисекундный аут, она отошла с переднего плана, не дождавшись ответного эха, и персиковые листья, как бы озаренные и перенесенные в чистый фокус ее плавным уходом, зашевелились в конце продолговатого эпизода, внутри затененного кадра вне (либо до) линии вашей слежки. Кто-то неизбежно вернется в зальное помещение к своим золовкам, отдыхающим вдоль фарфоровых чайников, лепешек, ломких лакомств и пиал до трех часов пополудни, помазанным поведенческой заданностью на безмолвный перерыв сонного, ритуального послеобедья; там же драпированные ставни источают волокнистую скоропись накаленного светила, слепленного складчатой тканью в пурпурный ком, в который помещается псевдо-скворец, прикорнувший на водонапорной башне, вдали, в противоположной зоне окраинной пустыни, отдельный от плывущего поблизости томного пекла, совершенно и целиком один, хотя всюду птицы, несметней, чем перья каждой из них. Чьи-то голосовые связки играют в жмурки с дымчатой завертью ржавых смыслов, немыслимая здесь трудная красота для погребенной библиотеки (ты упустил?.. о чем речь?..), говорит первый, все равно что переводить на чагатайский* – натруженный транспорт о четырех колесах в глифовых шинах взбирается на щебнистый холм, развеивая окрест урчащий укор фривольным плодоношениям, – поэму "А" Луиса Зукофски. Такой пароль, защелкни прорицающий панцирь, молчи, не проси – получишь, не ищи – само прорежется на рутинном пути и дастся в руки, спрячь в своем подъязычном сегменте острый трофей, как скорпион, как вилообразная звезда Леонардо Синисгалли, оставившая волосяной след на солнцепеке под виноградной лозой, и тут нечистой совести или пуристам нечего делать, говорит второй. Необходимость именно пяти фигур в мирной мизансцене, думаешь ты, южный Китай, не северный, погрязший в циничной взрослости, в событийных интригах, а нагло рафинированный юг, Ду Фу и его друзья плескаются в пруду среди лилейных чашек, наполненных вином, – зря надеешься, что мы очертя голову помчимся строить тепличное пристанище твоему муни*, мысленно умеряют братья эгоцентристский норов старшего брата, но отец... так называемый смертный одр... кимсан, унимая душное безветрие, сеющее панику во дворе, снова бережно взял керамическую пиалу, будто впервые правой рукой учуял ухищренность земной свежести. В глубине сада аспидным эмбрионом ластится к известковому взгорью ветшающий сарай, низкий, как пигмей, присевший на корточки, чтобы подогреть еду на спиртовке в зарослях фиолетовых сорняков. Женщины в мускусном зале смотрят молча на комнатный полумрак, продолжающий их молчание до трех зашторенных окон, за которыми тянется под глиняным козырьком фасадного отсека отлогий пустырь, что брезжит кисейными штрихами бросовых, тряпичных гирлянд, становящихся иной раз в короткой памяти на редком, горячем ветру подобием безнадзорной грации анемичных всходов. Отсутствие жизненной перспективы, говорит второй, притертый закравшимся в его накрахмаленную экипировку топографическим ведовством к родовитой тахте, где с ним и его братом почему-то может стрястись странное, прямо-таки благостное беззаконие, как после посвятительной анаши, – такой кайф, говорит, отороченный стегаными одеялами на фоне древесных фестонов; начинается, думаешь, у всех вдруг пробились наружу пафосные личины, навлекшие на себя эпически-фронтальный трэвелинг черно-белых фильмов пятидесятых годов, Отелло Мартелли, думаешь, безразличие, добавляет первый, Габриэль Фигероа, кажется, в Назарине, думаешь, много их колосилось после мировой бойни, близнечные избранники в целлулоидных рощах, – оно ведь неподкупно, безразличие, говорит первый, в конечном счете его промениваешь на сострадание, но ты перевел взгляд на друга, белесое имя, подернутое известью в пасмурное утро: уставился мимо тебя, в пятую сторону, коллекционирует версии пустот, новая одурь замечать, допустим, в небе антропоморфное облако, лепестковые мышцы сизых икр, подражающих графитному экорше семнадцатого века. Вскорости, как водится в такие моменты, подул жаркий ветер, два-три толчка, и медноцветные ростки отвесили поклон поляне, скрюченные, как улитковидное основанье чустского* клинка, которому не хватает светочувствительной дозировки, чтобы проявиться и выпасть из архаичных ристалищ на скатерть, на льняной покров выдохшейся бездны, – над керосиновой лампой, лежащей на земляном полу воронено-золистого сарая, бесился махаон, запаутиненный муслиновым сквозняком, и тутовые сучья некоторое время скреблись на листьях соседних персиковых ветвей, обранивая по воздуху безжильное биение чужой листвы. Не больше пяти секунд конвульсивно дул миражный, залетный вьюн и, затупясь у луговой оконечности, на повороте к полому, ирригационному змеевику под бетонным мостом, в одночасье потух. "Тото в себе замкнулся, Тото соображает, жизнь Духа постигая, непонятую прежде", говорит первый, награждая тебя затравевшей канцоной, – вызывающе эластичный, набитый шелковичной лентой, лунатический апперкот, невнятная, подслеповатая, мушиная парабаса, что на деле призвана лишить летнюю скуку бессрочной пищи; вряд ли теперь понадобятся мифы, говорит второй, ладное бесформие, кормившее нас авантюрной неисследимостью срединных длиннот без кондовых предысторий, без чугунных итогов, – отныне обходишься, говорит, незаживающе плоской очевидностью частных свидетельств, в которых наперед иссякла нечаянность; так и есть, думаешь, не прожившее свою безответность чуть чокнутое поколение, которому чудятся средь бела дня подлог и виртуозная выгода, отбичевавшая богов, но девушки, вполне натуральные в солнечном свете, изящно вывернув шею и глазами назад, на садовый прогал, поднялись (услышав тетин зов) по верандным ступеням в застекленную прихожую, просочились сквозь тюлевый пар в предусмотрительно и безобидно прямое, парчовое русло, сужающееся в коридорной линзе, и поплыли вправо, в душистую темень зального проема, в мякотную глубь топазовых видений. Тут же пыльные колючки встали с хрустом, подгоняемые в финишную высь знойным оцепенением после порывистого ветра, – выпрямились, долго настигая трубчатый купол своего далекого, иссохшего вставания во весь рост. Одновременно с этим проржавленным, когтистым шевелением подагрических трав твой друг поставил керамическую пиалу на скатерть, быстро, – и никто не заметил, словно этот жест существовал до того, как твой друг поставил керамическую пиалу на скатерть в некой неуловимой моментальности, когда урюковая косточка, брошенная кем-то в дувальную стену, сверкнула на отскоке. Восемнадцатого июня, говорит второй, Кревель покончил с собой, но наш способ безлирного бегства – пребывать по сю сторону и пить зеленый чай дни напролет на ярком солнце, говорит, усталый выдумщик, лысый (как брат), глаза слегка навыкате, выкупная лань, портрет Арденго Соффичи, вменил себе в праведность быть непременно услышанным, – отсутствующим взглядом окидывает вас, утопающих в добровольной ссылке, в местном Бранкалеоне, где напрочь не водятся граппа и море; к тому же гость (про себя) брезгливо мнет газетную простынь, как "Сельваджо", фашистский журнал, и мысленно кидает ее, вопреки дистанционным правилам, в солончаковое бельмо, в услужливый эпицентр оптического обмана, – чужестранец, знакомый знакомых, молчальник, нетопырь, доносчик, неофит в мире мертвых, задержавшийся на субботний треп до вечера в патриархальном предместье одноэтажного городка, или ангел-наблюдатель, забредший под сень мужского отдыха и не знающий, как называются правильно наши долинные предметы? Первый закурил; бесскорбно морщится межбровье в едкой вспышке, но сигаретный выдох серебрится над скатертью невысказанной, эльфичной, распыляющейся жалобой. Спичечная коробка на синей вышивке стеганого одеяла, огнистые выколки дореволюционного фаэтона в известковой стопе низкого сарая, паук на спинке резной тахты, стойкий ларь из тутовых досок, – разметанный чутким зумом деревянный омфалос поутру сгинувших плотников: из глухих зашторенных окон доносится костистое щелканье тавленной игры перед гимническим песнопением в три часа пополудни. В гипюрово-шифоновой кабале, не примазываясь к пушистой надсаде своих щебечущих дочерей, женщины передвигают черно-белые тюрбанчики на шашечной доске в закулисной церемониальности, пока захватанная фишка не шлепнется на палас, захлебывающийся трафаретной флорой, либо на сюзане*, хранящее в своей пантеистической коллекции перечный оберег, и не раздастся обрядовый плач по твоим в ковровой яскине*; мать, отец, субботний свет. Поет пересмешник на водонапорной башне, приветствуя махорочную летаргию саманных бастионов кругом, и где-то за кадром, у жатвенного сгиба проезжей трассы гуморальные стенанья вылупливаются в родниковом слезнике; недолго; махровые водомерки поспевают, крошась, к пульсирующей луже; кто-то включает радиоприемник (Диди навешивает мяч на вратарскую площадку шведской сборной, сообщает комментатор, сложный сольный дриблинг и могучий удар в дальний угол, – 58-й год, лето, чемпионат мира, 29 июня, братья втроем в кабинете твоего деда, близнецы и первенец, молодые, дерзкие, уже в будущем, подчеркнуто бритоголовые под Усмана Юсупова*, слушают дряхлую, добрую "Каму", оснащенную дополнительно проволочной феской) и закрывает глаза, как если б он в приталенной полукуртке из пепельной замши проскользнул через каменную арку в тенистый патио, ютящийся в подошве Столовой горы. В действительности перед ним, в ста семидесяти пяти метрах от родительского дома, разворачивается соляной форпост над обрывом в поперечную длину (в некоторых корявых фильмах, говорит второй, замечаешь такие естественные кадры, что думаешь, вот бы их снять, – надо отойти, говорит, и вести съемки (по сути, добрая доля нейтральной отстраненности, которой не найти нигде хотя бы хилого образца, прочит собственную убыль вне экрана) с предельно средней дистанции, чтобы взялся повод уклониться от исключительно доступной операторской маневренности, – камера без спасительной проводки на прочном эбеновом штативе, лишь объектив затянут кремовой вуалью, поощряющей лаконичную явность кислой фактуры, говорит), и в рассыпчатой, белой эрозии, в рифленых рифах хлористого горна четверть часа прозябают косматые сандалии узкоглазого садовника в мышиного цвета вельветовом камзоле, созерцающего под собой гигантское пасторальное полотно, чья клеверная крепость далеко внизу теряется в тигле июньского неба: две мелкие фигуры слева направо пересекают пастбище, ослик и его хозяин, понукаемый животным, хотя как раз наоборот (справа налево), ушастый бальтазар цокает за миниатюрным латифундистом, восстанавливая сквозь дефектное марево обычный порядок сельского шествия. Шершень, говорит второй, – верткая, двухсложная наводка, блеснувшая в мужском мозгу чуть уместней, чем сноровистость апатичной твари, чем воздушный, мохнатый рывок рыжего, насекомистого трезубца в песчаный тыл виноградной плантации, где безадресно и ватно вибрирует бродильный аппарат; кимсан инстинктивно поднимает левую руку над головой и тотчас опускает ее на скатерть, словно приносит присягу в дальнейшем покое своему жесту, который, продлившись миг, вывелся в пальчатой канве отвесного взмаха, поглощенный северо-южными лучами душного дня. Dolce padre, первый, тем временем рассуждает о зрелости, об этом сносном умении справиться с необходимостью избытка, и сразу перескакивает на неудержимые цитации (гостю, наверно, тоже грезятся в его немой схиме бескровные, меланхоличные протагонисты Каспара Давида Фридриха на скалистом участке перед зеленым каньоном, и твой лучший друг отламывает лепешку, иссеченную росными щелчками смуглых пальцев поджарых пекарей), всего один раз, пишет Новалис, говорит первый, в прологе четвертой главы в "Мейстере" появляется пейзаж; второй кивает, второй сладчайший опекун, сюжет опаслив, говорит, история вязнет в том, что Шлегель в Атенейских фрагментах назвал "систематической завершенностью"; начинается, думаешь, совсем свежая, германофильская пря двух братьев, двух неподъемных, бездетных, ленивых, умиротворенно борзых близнецов, отменивших когда-то, в иных ситуативных эонах, вялым ворчанием (сейчас в их трогательно чванливых голосах пасутся Клейст, "Смерть Вергилия", Хассенбютель, Йонке, Бернхард, которого в кафе Braunerhof молодые журналисты распинают вопросом: вы считаете себя католическим экзистенциалистом?) малый тестамент твоего отца. Двухголосье не сякнет, думаешь, мы привыкли – пусть покамест (в очередной раз) тешат себя словесным кривляньем, чтобы не поддаться тлению, в то время как в трех зашторенных окнах поют женщины: вековой вой метрических слогов, долгих и кратких, захлопывается в лапидарном придыхании, чьи тиски раскачивает редиф. О, ты, Чтец дольнего урожая, и т. д. После чего слышен скрип речной мельницы, прогнившей, цветастой, как если бы всё, что портилось, предлагало зрению монотонный урок хроматической броскости, и рядом картинно криво валяется береговой булыжник, осклизлый, как отел бурой коровы. В придачу сгущается в три часа пополудни такая жара, что перенесшие линьку в конце города узкие, обсидиановые кошки ползают на животе, растягиваясь, как черный мед, по молотым, сахаристым терниям памиро-алайского плато, и двустворчатые двери кишлачных веранд в близлежащих просторах остаются неизменно распахнутыми – никем не уязвленная, расточительная знатность оседлой открытости, усыновляющей любой окоем. Откуда-то пикирует без навигационных приборов ацедия прямо в твои миндалины, в твой кадык и перистой мольбой селится в горле: увещевания ангелической бабушки, матери отца, камзилини кий, совкатасан*, старшие, они в то десятилетие еще живы в продуваемых и подметенных помещениях, затопленных солнцем, – милые тени, ускользайте, глиссандо, глиссандо, прогорклая летучесть щемящей сигнатуры всех изведенных временем, карбидный чад странноприимной хроники; снять пасмурь, говорит второй, хмурые тучи над черепичными крышами окрестных нуворишей и назвать фильмический этюд "это не Фергана", говорит и дышит воздухом, который столько же не требует, сколько не теряет; имперфект, говорит, – наш парадиз, а самого разбирает смех, и бледные блики, выпущенные из невидимого сарбакана, мечутся по тахте, атласной ячейкой перетекают через паутинный катафалк, через инкрустированный борт впалого пятиместного ковчега не долее десяти секунд; беглые события внутри масштабной протяженности, говорит первый, надо снимать медленно, и чиркает спичкой так слабо, будто она зажжется по собственной воле; кимсан кладет ломти лепешки на скатерть, анонимный, смирный, невзрачный, почти богоравный. С водонапорной башни сочнее напоследок льется нервно-хрустальный зонг тюркского пересмешника в пурпурном свитке, никем не прочитанном; пастух и его ослик между тем вынашивают свое мельчание в дымке эллипсоидной долины и до сих пор плетутся через травянистую, кое-где выжженную хлябь, как два крошечных паломника андалузской касыды. В этот момент прекратились и смех, и тлевший трепет грузовой машины на острие слуха, вдалеке, и фальцетная эклога, славящая горнюю пажить в трех зашторенных окнах, чья хинно-палевая темь несколько часов по грану, по смачной капле анестезирует четкость холеных комнатных вещей. В молодости, говорит второй, меня лишь изредка настигали фрагменты ослепительных впечатлений, но после шестидесяти, в своем запоздалом акме, чувствую внутри себя щадящее постоянство ровного сияния, в котором бабочка полоснула мужской висок и желтую лунку солярного хлеба в кунжутных и маковых зернах на столе. Потом кто-то опустил глаза и посмотрел на скатерть, на лепешки, на мед в пиале, на чайник, на заслонившие середку стеганого одеяла орнаментальные фрукты, на этот vanitas vanitatum, из которого ткач изъял каллиграфический зачин депрессивных символов: лодку, гонимую с отдаленного берега в Средиземное море бесшумным ураганом, оторопь телеграфного столба, обязанного своей статичностью стойкой неподвижности за ним наблюдающего взгляда, и с налетом южнорусской усадебной ухоженности выцветшую от суховея среднеазиатскую глушь, в которой садовник идет дальше мимо обрыва, пиная лепрозные нарывы пышной пыли, типичный Лас-Урдес, – идет дальше посолонь, обогнув за пустошным углом выбеленную стену, словно белизна служит удобной уловкой предметного обетованья. "Тото в себе замкнулся, Тото соображает", говорит первый, "однажды он родился, однажды он умрет", говорит второй, улыбается; близнецы, думаешь, что-то их связывает, сидят напротив, перегонные колбы, сидят напротив и глядят в упор на тебя, на твоего друга, на гостя, будто близость нуждается в зоркости, и по-прежнему над вами висит виноградное титло, просеивая на топчан что-то вроде свечения спрессованного пепла, – к счастью, поминальный обряд в зале завершился, и вскорости в доме, только наполовину вычтенном предзакатным солнцем, раздастся вновь деликатный стук приплюснутых пластинок по игральной дощечке, упорно-безличный азарт аккуратного, глухого токования, округлый, терпеливый, настырный ток, пронизывающий модуляции и безнаказанные колокольчики девичьих споров. Фергана, 2010. |
По крайней мере через две-три недели... Ваш летописец юга нашептывает на больничной койке очерк о Чеках* – ориенталистскую щедрость одного царского офицера, тоже своего рода обет личной отстраненности, которая длит бесплотные имущества увиденного избытка. Зрение мешкает в сохлой беговке затертой обложки, не вмешиваясь в маятниковый рой нечестивой Истории. Придется меня забрать – по крайней мере через две-три недели... демонстрирует пальцами забытую морру стоящим поодаль стареющим близнецам, и сыновья чувствуют себя раскрытыми со всех сторон, словно с них сорвали одежду. Таковы некоторые отцы, не все, завещавшие детям ликование напряженных феноменов. Немного правее черно-белой картинки в клеевых блестках безветренной наводки псевдохипповой эпохи осеняют зрительный свод тутовые листья, в редком шевелении время от времени превозмогая встречный летний тик, и четырехустое изваяние расположилось на тогдашней тахте у первого из братской пригоршни, романтичный пантюркист, фрондирует бахчисарайскими ресницами, поправляя собой велюровый край бахромчатого помоста, вдогон артезианскому клекоту, орошающему серозем, – на протяжении шестнадцати минут, не чинясь, путает факт и мираж, джадидов* и вудсток, высший шик тех времен, и его молодая тетя с глазами цвета мармар денгиз* оставляет субтильным львам в пацифистских полукедах на скатерти с вышитым по центру тусклым альбатросом металлический поднос, звякающий осколками слюдяного сахара и четырьмя чашками кофе, – словом, не подоспел еще порыв провозгласить здравицу в никакую честь. Смуглый нанук знойной атмосферы оставил внизу сонный грот, ватный вихрь лютого покрывала вдоль пят, освещенный солнцем у бетонного прохода в госпитальную пещеру, и вернулся домой, в свой кабинет – не мир, а ребенок, забавляющийся гарротой в его изножье. Но мальчик стоял в правом нижнем углу распахнутого окна и тут же на шестнадцать пальцев дальше замер около левой створки, словно перепрыгнул через монтажный стык, словно само мгновение моргнуло. Внутри кадра (чуть позже ты вернулся в зал спиной к балконному барьеру, в гостевую комнату, где другой человек, твой близнец, закрыл и открыл книгу, бувар и пекюше, открыл и закрыл книгу после смачной фразы "на потолке чернело большое пятно от коптящей лампы" – скорее всего, нетрудно прожить никчемную жизнь или превратить ее в опись, составленную при ликвидации) отнюдь не мерещился скачок, чья упущенность усиливала никому не принадлежащий статичный план, который, казалось, в лучшем случае продолжал спокойную неподвижность заоконной материи. Как раз то, что нужно, бесповоротная достоверность первой скуки, иной не бывает, никаких обещаний, но ребенок вошел в пыльный пенал плоского дома напротив, прячущего тихий эреб прохладных комнат, чью настенную листву над мимозной маркировкой шелковой котловины, что лоснится при трубном гласе и вянет внизу от солнечных касаний, сгибает трафаретное навершие: ястреб. В такую же ясную погоду тыщу лет назад – четвертый из вас, киник, то есть странный, как сказал бы Леопарди, на "почетном месте" закрывает глаза в своем этрусском семилетии напротив верандных кольев – пылал праздник прокаливания зерен, преданный долгому полдню, думает он, или ширился шершавый сезон, погруженный в плавный сев, и открывает глаза – телеграфные столбы в проеме входных ворот не таятся, они стоят, но кто-то провел ладонью по лицу, как если б хотел подобным жестом бросить вызов своей предыдущей позе: руки в карманах льняных брюк, голова повернута вправо. В сущности, отрезок пустошного пути (по которому в тот полдень, срезав центральный, плавящийся в июньском предобедье асфальтовый маршрут, воротились домой с базарной толчеи две племянницы и мать первого – оливковый лоск романского духа венчал их сингармоничный говор, пока они семенили, щебеча, вдоль затравевшей хорды безбетонной канавы к родным воротам) между пекарней и текстильной фабрикой расточал своей безропотной мертвенностью сорный, догородской флер забытого ландшафта ради некой некрофильской картографии. Такая сквозь солнечный туман потрескавшаяся фотобумага, вроде бы и впредь готовая ветшать под обложкой флоберовского романа, множит наугад бывший кругом космополитичный дол. То или та, тот или те всякий раз другие, когда пытаешься их опять воскресить, вынашивая сугубо свою новую комбинацию резкой и свежей константы, но во всем коренится какое-то неуловимое постоянство общего итога, не позволяя ничему меняться: двухфарсанговый* базар парит в притихшем добела предместье, где рыночную стойку почему-то глушат стайки цветастых свистулек в глиняных перьях, – пластиковая лейка покоится на пиявочной прошве в русле искусственного канала, газетный клок тащит в полевой отвод купоросный заголовок "лябдургаш" по арычному надрезу, и в конце квартала на щебнистой насыпи притулился ястреб, будто в периферии завелся чужестранец иберийского типа. Это боги здешнему царьку вправе сказать, лучше вовсе не родиться, а ты просто (второй слева) берешь чашку крымско-татарского кофе и смотришь на младшую сестру его матери, щемящая женственность идеальной брюнетки в адрасном* платье (слегка выше ямочек в ее коленях), и никогда ведь не прикоснешься к ней, пока вы отрезаны друг от друга предназначенным только для вас совместным родством, – отдаленное сходство с ее аурой можно уловить в героине одного фильма Валентино Орсини, "Люди и нелюди", каблуки вязнут в почках молодой смолы между трамвайных линий за пять тактов до героического самоубийства ее любовника и так далее. В принципе, Кто-то – двое и двое полулежат на тахте в поп-майках, испещренных анилиновой краской, как морской надир, застигнутый по горизонтали леерами, или в клетчатых рубашках без воротника и с погонами, вычурно пришитыми к их локтям, и никто из них не чувствует себя публичной афродитой, – никогда не устанет созерцать монотонную пестроту каждодневных остановок, которым вряд ли представится случай быть выведенными в тираж, где в стволистой пемзе мопедных спиц над рифленым котелком гибкого ниппеля небо уплощается в небе. Вскорости между ними вспыхивает щепоть состояний, когда максималистские признания скапливаются с четырех сторон в сумме всех продолжений: норма дичится любых оценок, или в подозрительно ограниченной линеарной магме каждая частность оправдана и живет в своем отдельном беззаконии, или (запел пересмешник вдоль шелушащейся виноградной лозы фальцетом сохского* цыгана – писклявая персоязычная мольба в канун рамазана или рапсодическая исповедь сына века, угодная югу?) не сделать того, что ты неизбежно должен сделать, по-настоящему и есть то, что ты обречен сделать, или ты едешь в комфортном купе двадцатилетней давности, и перед моим окном средь бела дня тащится товарняк, набитый грязными луноликими подростками, такими глазастыми гроздьями сухощавых преступников из детских колоний, – думал, незваная боль проканает, но до вечера его долбала не своя мысль – почему (и с какой стати) именно они очутились там, в отвратительных вагонах для коров, а не я? Одновременно, судя по смутному лезвию мужских фигур на фото, они вот-вот наймут друг друга для перекрестных озираний, и двор, столь обширный в детстве, выгородится в их глазах в уютный эскуриал с фруктовыми деревьями, с боскетными башнями, с цементным блеском сая* на дальнем плане, с гранатовым кожухом, что окутан усталостью металла под гранитным контрфорсом кубического месива в гравийных зернах, ставшего, приблизительно после смерти Марка Болана, не то летней кухней, не то пекарней. Между тем над флюгером соседнего дома, где исчез мальчик, одним неприкаянным росчерком пролетает ястреб, чья стремительность гасится ее же промельком, вкрадчивым и брезгливым, как ремарка елизаветинских драматургов, и мужская рука, сразу набухшая отдельностью своей простой цели в проветриваемом холле вдоль раздвинутых штор, кладет книгу с бессрочной машинальностью на стол, на одной из крайних ножек которого нацарапано P.R.B. – причем последняя буква, только она, пульсирует серистым, микроскопическим маяком в шлифующих касаниях теплого сквозняка, как лишенная мякоти карбидная схема местных, туземных зодчих XIX века на голой, подметенной земле. Двое разглядывают (двоих и двоих) отчеркнутую до икр резной переборкой незастекленной террасы сорокалетнюю брюнетку, смотрящую издали на своих безмускульных любимцев через весь майдан так пристально, что солнце усиливает извивистую горечь пыльных клиньев, которых прессует водопроводный бич в угристую эрозию желчной масти... Все равно даже в самых инертных обыденных версиях неизменное наперед не успевает состояться, но сердцебиенье настолько четко, что в отдалении между холмами немедля виднеется одноэтажный кров: гуление хилой пери в перепелином тельце на острие чердачной лунки, входные ворота, изогнутые, как клапан захватанной монографии, воздающей хвалу вассальной земле, черный кувшин, оплетенный соломой, как фиаска, на зеркальном трюмо без матери, и дымчатый оракул, прорицающий по радио голосом Дьердя Черхалми нулевой счет в дивном матче Дожа Уйпешт – Ференцварош. Везде царит такой явный полдень в раннее лето, что сыновья ведут его под руку, ты и ты, через переднюю, через зальное крыло, через столовую, через спальню (вылитый сохский цыган в дверях с молитвенной выемкой в горле) в кабинет – вновь назревает очередной скачок сегодняшней картины на диаскопической растяжке, покамест он (после болезни тощий и смолистый кумир чинной атмосферы, соскользнувшей в прошлое, в увядшую книжную кору балтийского востоковеда, замкнутый, вдоволь объезженный своей скудной телесностью, замшелый корифей, повинующийся косноязычным увещеваниям пришибленного хора, – не более чем желал жить созвучно корявому паролю в рутинных условиях "всегда так, как нигде") не устраивается, скрестив ноги, на полу, занятом наполовину циновкой в блескучих тканых стеблях под письменным столом, и десятилетнее существо, каким он был, останавливается над его коленным выступом, чтобы нашептывать ему параболу о Чеках, о давнем полукишлачном Маноа*, – близнецы разжимают пальцы и спиной, будто пневматический груз плашмя надавливает на их грудные клетки, отступают назад, в гостиную, где в клавишном течении фолиантов их ждет нормандский эпилептик. Затем четыре головы на тахте, подчиняясь неслышимой и мгновенной командной подсказке, повернулись одной винтовой горстью (ты открываешь глаза, потому что другой, сидящий к тебе затылком, тоже открывает глаза) мимо брюнетки, лущившей фисташки на террасе, мимо фронтальных съемок в сторону попавших в фокус кладбищенских ворот, словно заметили на мазаре* (где эпитафии присуще обвивать могилу) бледное граффити на крупномодульной кладке, хануз шу ерда сен*, в продольном основаньи кирпичной гробницы, – тутовые листья, торговые лавки, телеграфные столбы и желтая пекарня торчали на островках июньского зноя, настолько щадяще нейтральные, что не нуждались в эвфемизмах, и последним в этой сносно экспонирующей достоверность сирой обойме лежал, как мятый мох палеонтологической мантии, безвредный пустырь – архаичное, не тронутое никаким производством снулое сырье, что сулило бессменные запасы реликтовых и наждачных неясностей. Четвертый опять закрыл глаза (опять полулежит на снимке, будто под ним планирует недвижно милый его сердцу теллус – зооморфное почившее божество в золотисто-буром оперенье) своей же ладонью, которая погружает его в море, увенчанное, допустим, тенью триеры или "почетным местом", какая разница, – всё, берег ему не интересен, берег, что силился прежде уесть ему зрение кислой твердью, меченной беговкой, – вновь открыл глаза, и ты помнишь, как он поймал на секунду в рапиде правой рукой правое плечо второго друга. Верткий оттиск в садовой земле змеился в форме перечеркнувшего его ужа, и ниже, в пыли, морщилась, как рассеченный кетменем золотисто-бурый полоз, шелковая повязка для волос, словно ею пользовался бас-гитарист Элиса Купера в School`s out. Короче, они сидят, скрестив ноги (типично южная поза, призванная сообщить их поведению весь кайф уже свершившейся апатии), близнецы, на устланном сюзане* и рыхлыми, стегаными одеялами зальном полу, по которому на одной дощатой кайме теплится меловой вечностью тридцатилетнее фото, извлеченное только что из книжного шкафа, – ты (через переднюю тянет попасть на арочную веранду, откуда открывается вид на садовое капище, увитое виноградными листьями, и там, на светящейся маковке дворового туннеля, медно сохнет сарай, чье фанерное полотно утыкано рваной пентаграммой мопедных спиц) и ты: под потолком, правда, проплывает пух, вернее, узкий белоснежный мотылек – крошечный керуб, не замеченный никем, или эшеровский эмбрион в ступенчатой аркадии, или зарождающееся в сумбурных пробелах полуденной гравитации белесое межбровье какой-нибудь прерафаэлитской сиддел, – так что одна занавеска вздувается над письменным столом, в то время как вторая в противоположной части длинной комнаты, наоборот, всасывается в свой же боковой складчатый спазм перед коридорным отверстием, скрадывающим обожженное темя шиферной крыши до сих пор не осевшей в землю желтой пекарни в семьдесят восьмом году (или в 76-м?) в переимчивых и тщательно метенных мелочах золотого исхода, когда па́ры на великах в пыльных сандалиях, как беглый шлейф античных коммун, бликовали по восточному кварталу в базарном углу мимо считанных лавок, которые, сверкнув на велосипедных колокольчиках, меркли. О чем они говорят, ты держишь в правой руке фото, на самом деле зная ответ, не помнишь (ничего врасплох; два-три жеста, еще два-три жеста, еще два-три жеста, не позволяющие им приписывать то, что потом непременно сбудется)? Кажется, в тот раз целую минуту – сейчас ты берешь в правую руку отдающие серебром сценические подтеки тридцатилетней эмульсии – мы вспоминали майский ритуал в Йигит-пирим*, наш вариант Ювенты, такое овальное озеро в восточной долине за аувальскими* холмами, и увечные "дети цветов" ступают вслед своим опасливым телам в ледяную воду, повернувшись спиной к алайскому* кургану, к "божьей коровке", к этой топонимической причуде даваньских* экспатриантов. Четыре чашки кофе взмывают и оседают на скатерть внутри их голосов, выдумывающих фильмы: о желании эмигрировать и сменить здешнее солнце другим солнцем, о поиске точного пространства, в котором ты уместен и остаешься наедине с безличным теплом, о маниакально подробной экранизации "Дьявола на холмах", о семейной хронике и, может быть, о том, что из слишком долгого однообразия, из неистощимого убожества наверняка рождается рай, в котором ваши зрачки цвета тутовой коры вонзаются в экран, и только спустя два часа вы обращаете внимание, что очутились за стенами задроченного зала в узловатом дворе. Начало, к примеру, такое, говорит первый, рев пассажирского самолета, снятого с короткого расстояния, почти в лоб, поднимающийся визг, гигантски расширенные сопла и внезапный переход к моим племянницам (они смывают сейчас, говоришь ты или говоришь ты, мокрой тряпкой пыль с обуви, роняя капли на балконные доски, и в ноздри впивается запах зноя, поселившегося на террасе в полосах струганого желтого дерева), мастерящим чучело биби-Мариам* в опрятной прихожей, где иной раз я читаю сильных авторов прошлого, признанных беллетристов, но, дойдя до пятой-шестой страницы, ловлю себя на мысли, что рассказанные в них истории – всего лишь скрытая форма одной и той же посредственности, одной и той же неисчерпаемой лажи, передаваемой людьми друг другу по эстафете, из столетия в столетие, – подчас мне в голову ударяет, говорит четвертый, терпкая несвершенность множества моментов, как назло отобранных окнами в поезде или в машине для съемок, как если б завершилась драма, настроение после катастрофы – трупы убраны, и в пустоте кружатся клочья жаркого тумана, влекомого ветерком мимо бледных верхушек сорных трав. Тебе и тебе видно с тридцатилетней дистанции, как они поочередно опускают веки, третий, затем первый, затем четвертый, затем второй, метрически вялое, садняще головокружительное перепархивание с одного мушиного интервала на другой или инстинктивное forte вестибулярных сородичей в духоте четвертьвекового полдня – так обычно не хотят смотреть на перерезанное горло черного барана в свадебный сезон. В общем, что-то уставилось внутри них в сверкающую паузу вне жизни над притененной впадиной, где скоро забрезжат трухлявые фасадные лохмы поникшего в минеральной лепре колониального, псевдоготического кинотеатра: просто стена, такая же белая и такого же размера, как экранное полотно (пролог, в частности, так быстр, что зрители успевают "обжечься" инородным счастьем от аккуратной белизны вступительного кадра), и брессоновская дама булонского леса, попирая пленочные склейки, шествует с томиком незавершенного романа Г. Ф. в пушистом несессере к глотательным накатам галльского бриза, мающегося на шестнадцать пальцев дальше в лиственной манке: мальчик вблизи пекарни поймал прыжком пух, чей отсверк бьется в двадцати метрах отсюда в зальной комнате, где ты и ты вглядываетесь в фото среди хлопьев, настолько маленьких, что они искрятся и, надуваемые своим искрением, выпархивают наружу через открытые окна. Поперек их порхания четыре чашки крымско-татарского кофе оседают на скатерть и взмывают над ней внутри мужских голосов. В придачу бритвенный трансфокатор медленным сужением выделяет близость "той" шаблонной росписи и косой птицы, что теперь чертит медиану над сыпью цинковых бактерий подле текстильной фабрики, стелющейся внутри ultima thule, как черствый укром воспаленной аппликации, – глубже, в эпицентре сернистого солнцепека, который мог быть сияющей вымоиной в итальянских фильмах, лопаются надпочвенные, сферические начертания – горячая, истончившаяся власяница взамен бывших свинцовых плиток. В лобовом ракурсе встающая снизу выколотная сушь отсечена покатой высью, что в сиесту обходится собственными силами без гадательного оцепенения, дразнящего в мглистом помещении серию геологических силков долинного свитка, от которого берет начало предгорная поляна, где козлиную тушу меряет порывистый лаокоон улакских* неофитов в имбирных чапанах*. Такое чувство (наверно, утрата прежней Ферганы может предстать им наподобие в один миг исчезнувшей испанской модерновой зари, отзывчивым каскадом клокотавшей в поколении 1898 года), что они жили по соседству, через улицу, – отсюда тянется их уступчивость непредсказуемым приношениям их же наивных видений, в которых, скажем, брюнетка в некоторых фазах ее перемещений между кухней и верандой вроде бы старается всей своей статью вселиться в безликую француженку fin de si?cle, обернувшуюся тут, в орнаментальной полупустыне, вполне тюркской незнакомкой в излишне цветастом патриархальном наряде, более тяжелом, чем ее тело, усеянное паническим прибоем несдираемого витилиго, напротив царского офицера в буром мундире у сплошь инкрустированных ворот разоренного Маноа, – тюбетейка с тряпичными бубенцами, подвязковый нагрудник, хлопчатобумажная завеса до галош и спускающиеся к фалангам пальцев шифоновые рукава зря снедают надушенную скверну, лучащуюся ядовитыми огоньками сквозь ее ногти. Вдобавок с подачи первого, потом и неожиданно, четвертый, ты и ты полминуты рассуждаете об (предвестие Гайд-парка, где кто-то, слишком хрупкий и худосочный для британской истории, читает гулкого в иссохших лаврах "Адонаиса" перед навощенной публикой, облекая в тонический ламент сдвоенную персть ушедших до срока: тело в бассейне и тело в протестантском взгорье римской пьяццы) английских критиках романтического периода, когда женщины во дворе, две его племянницы и мать носились туда-сюда, как осы без жал, с корзинками для лепешек, с новой скатертью, с конусовидной, сахаристой массой из пшеничных злаков в керамических пиалах, будто в ходу была суета в том субботнем свечении, Хэзлит, Кольридж и Лэм, и брюнетка бросила кукурузный початок в тандырный* зев. Тем временем диктор в радиоприемнике на уступе стенной пазухи в балконном углублении сообщил, что полузащитника "Ференцвароша" заменил полузащитник "Ференцвароша", как если б дважды звучавшее именование в ту пору имело свойство возвращать слух окрестным людям или хотя бы старику, покинувшему свою асептичную штольню. После чего первый устремил свой профиль к пропеченной солнцем, эксгибиционистской черноте съемочного аппарата без треножника и оперся словно струящимися с его лопаток вниз вдоль позвоночника вывернутыми руками о декоративную излучину трапезной арены, осененной таким неудобным положением его тела. Он глядел перед собой, на дувальную* косу, где ему чудился приближающийся к разгару памятный концерт Ten Years After, и Элвин Ли дробил свой сольный пассаж, – заостренный и отбеленный расстоянием в тридцать метров двупалый медиатор кейфующего гитариста походил на зубчатый в мелких, молочных жилах натруженный стилос бактрийского писаря, позже искромсанный под копытами затхлого коня коренастого юечжи. Вероятно, они ухитрялись вместе представить одно и то же (не только немых и личиночных зрителей, смотрящих фильм, где зрители смотрят фильм), – девушка в давней вещи L`Eclisse спрашивает, что самое сложное в управлении самолетом, и пилот отвечает: найти пункт назначения, – далекое и неусыпное рассеивание ничейных даров, содержащихся, в действительности, в каждом микроне обиходных обстоятельств, которые твердят в разных местах, наш блеск в умении угасать... Там же они сидят, на тахте, четырехфигурный сконцентрированный сбой, хранящий черты хаотичной утопии бессобытийной саги в неподкупной фотографической патине, что никого не смеет отныне обольщать. Две племянницы, как свечи в своем оплыве, удаляются вглубь двора к тандырному ковчегу, которому не нужно тратиться на регулярно средний настрой своей и без того умеренной заметности, – кофейный пар к тому же льется над скатертью с вышитым по ее центру тусклым альбатросом, символом атлантической культуры. Теперь щебнистая насыпь обилует здесь бессочной единственностью, как футуристический жупел, привечаемый лишь ястребиной слежкой. Насколько хватает глаз, никакого чужестранца в пригородных кварталах в тот год, словно его безбытийность была Кем-то изумительно подтасована. Появись он тут, где арабские цифры на калитках, пустошь и выщербленная дорога, даже вблизи, тотчас обнесены расстоянием (бредущий по окольному, суннитскому спуску, два акра, мимо крымско-татарского дома, мимо поляны, мимо тутовых черенков сорокалетний ибериец в унамуновских сандалиях, сказал первый, имитирует усеченный танец пиренейского кальмара), – возникла бы двоякодышащая эластичность за счет кротко умалчиваемой интроспекции и переднего плана. Впрочем, вдруг взамен того, чтобы нагрянуть сюда вовсе не костлявой пагубой, но вудстоковским алмазом неоклассического братства, гость прилучил бы вашу оседлость к скитаниям неисчислимого Дела, в то время как девушки через весь двор приближаются к тахте и кладут на скатерть три дымящиеся лепешки. Мужские пальцы ломают мучные диски с мягкой неспешностью и осторожно, как если бы, напротив, скрепляли намеренно битые поделки в безмолвном хэппенинге, в котором всякий раз остается задел для зазора и мельчайшей асимметрии, как и везде, – Ревнитель убогим изъяном без вида и величия успевает всегда на йоту раньше отмазать распыленные мотивации от близкой Буквы с занозистым привкусом эсхатологического эха; ястреб когтит сыпучий гласис, то есть зоркий стилет сверлит юркую брешь между ваших плеч, затлевшую, словно с нее вот-вот снимут нагар, арычной волной, – она отражает дерзко-плавное козлодрание в чапанных космах вдали над перетершимся созвездием однородных каменьев и вверчивает в глинистую воронку нитяной газетный клок и заднеязычные гласные, "лябдургаш", – пятьдесят четвертый год, Пушкаш (мальчик пинает вверх лянгу, такой, за неимением лучшего, козий пух, что приклеен к свинцовой плитке за луговой остью, окаймляющей имбирный пот лаокооновых кулис) забивает гол немцам среди валких воплей на швейцарско-немецком; телеграфный столб не трогается с места, колкий и поджарый, как сбросивший за ночь лишний вес аувальский холм; это боги вправе сказать апоплексичному царьку, лучше вовсе не родиться: никаких ларов, никакой привязанности к своему призванию, никакого родства. Однако они идут до конца внутри воскресной скуки, как в тысячелетнем царстве, в этом вглядывании вовне (откуда веет вереницей ретроспективных образов: четыре фигуры только что вылупились из драк на пустырях, кодла на кодлу, в илистом низовье смывшей буддийскую ступу маргеланской* реки, где их не подводило ничего не значащее упоение сиюминутным в шкодных ломких кастетах), приманиваясь иногда тупиковым заслоном: "что ни возьми, все остается нетронутым". Но друзей всегда четверо (Хандке) – полуденное число, засекающее фрагментарным воспоминанием иссякшие распри, написано угольной тростью на обратной стороне снимка, – кто? прочее притворилось густой расчетливостью важной вражды? На сей раз ломти лепешек, наклонно стынущие до мякоти и маковых крупинок, втягивают в себя ленточный, слегка волокнистый ручей собственного дыма, будто имеют чашевидную форму; сбоку, над скатертью, вчерашний (или тридцатилетний, или недавний) ястреб по-прежнему стережет щебнистую возвышенность, надавливая когтями на пожухший сорняк или на козлиную тушу, – присевший на корточки во фраерской манере дряхлый столпник, всевидящий (спустя секунду обязательно выплюнет на землю комок насвая*), горбатый пигмей в коричневой ветровке, спокойный, сам себе вожделенный допинг. Так или иначе мать, две племянницы и брюнетка, явно смахивающая на фирменную статуэтку позднего неореализма, не шевелятся около резных досок верандной галереи на пришпиленной к их ногам дворовой земле в мазках раздавленных червецов, в атласных шпорах обитательниц тенистой ичкари*. Четверо мужчин взирают на них, не отрываясь от наглой репризы своего неподвижного энтузиазма, который исчерпывает отвесный дурман жизненной перспективы. Кто-то открывает глаза и кивком пасует свой карий взгляд другому, тоже открывающему глаза. Только первый указательным пальцем вывел на солнечном клинке, отполированном тутовой ветвью, полый палимпсест, P.R.B., будто ворошил пепел залетных и ветхих букв, по которым ползла божья коровка. Насекомое полоснуло прерафаэлитскую золу, в которой угадывалась роковая вечеринка (лоренцо-россетти в пурпурной одежде склонился с рискованной нежностью к изабелле), перелетело к айванной* арке и село на левую ладонь (женщина-левша с прической сороковых годов под воображаемую кузину Элио Витторини – см. "Люди и нелюди") брюнетки. На его бесстворчатом панцире запальчивым растением ныряет за кадр ландшафтный рисунок: первый (почему-то крупным планом), замедленно возвращающий пустую чашку на скатерть, гостевая тахта, крымско-татарский двор, асфальтовый шлях, ведущий к памирскому хребту, пекарня, велосипед, кинотеатр со стрельчатой кровлей, озеро, две племянницы, мать, стиснутые базарной толпой, такой плотной, что они втроем заметней сверху, с высоты едких буркал пернатого хищника, упустившего тот момент, когда в повторной перемотке на экранном сегменте щелчками и в угловатом темпоритме, свертываясь в химеричный флэшбек, проносятся мать, две племянницы, озеро, кинотеатр со стрельчатой кровлей, велосипед, пекарня, памирский хребет, асфальтовый шлях, крымско-татарский двор, гостевая тахта и первый (как достигшая предела бесцельной натянутости кожистая пружина), хлестко метнувшийся вспять, в замедленное движение руки, которая ставит на скатерть пустую чашку. Тем не менее никто не ударился в бегство, хотя в вычерненной жарой парадной комнате свою разошедшуюся блеклость умеряет хрупкий квадрат осветительного патрона, тридцатилетнее фото, в котором слышен скрипучий молебен фанерного полотна сзади мопедных спиц, чистый пат, полный ложных деталей, – вместо, например, долго тающей детской пятерни на дверной ручке застрял узкий, белоснежный мотылек, раздавленный в том месте, где должен быть след раздавленного мотылька под асбестовой планкой. Посему нельзя куда-нибудь деться или уйти прочь отсюда, минуя единственный алтарь, саму землю, думает первый, что так думает четвертый, что так думаешь ты, что так думаешь ты, что так думает первый, если только не кремируют, но все же вновь причалишь к солончаковым Чекам. Распахнуты окна. В мозгу бьется сухая лава пылких ударных невыносимого Джинджера Бейкера. Звучит как Крым (Cream), не поддающийся селекции, каждый раз утаивающий себя в показном тигле периферического зрения, откуда, корчась, выныривают хлопья мотыльковых мучеников. Брюнетка спускается по золистому приступку в зебровидную зыбь, украшающую двор, и холодок вогнутого междуречья зигзагом перетекает справа налево по ее сладко расширяющемуся лицу в солярных порах, пока она несет мужчинам караимскую просфору на керамическом блюде. Тело Йигит-пирим? Ты поднял глаза на тебя, близнечные контестаторы в обшарпанном доме, и сказал что-то вроде... Они и впрямь похожи порой на скуластых статистов из некоторых отрывков йоркширских документальных лент, включенных впоследствии в список "в субботу вечером, в воскресенье утром", – слушали бы нормально без приторных реминисценций, скажем, Криденс на фоне христианского социализма, в зените британской фулы, или, что менее вероятно, посещали бы в Сохо раз в год кафе типа "Колония", чтоб поглазеть на бэконовский триптих (холст делится натрое по принципу полицейский портрет, – вы чувствуете, спрашивает Sight and Sound, неизбежность смерти? вы думаете – я один?.. – отзывается немощь в голосовых связках хмельного художника: немного в сторонке выделяются вокруг столиков потные лица, обрамляющие постный помин). Другой старик в другом месте смотрит сейчас на равнинный каландр захлопнутой книги о Чеках – он слышит запах (но вряд ли замечает его) поздних всходов, которые, моментально выжженные, выпрямляются от дуновения ветра, будто встают с колен после молитвы. Луч, висевший поперечным мостиком над сорным разнотравьем, качнулся, и кто-то вспомнил, что видел его во сне год назад: приближение без близости. Первый закурил – возникшая в сигаретной дымке щель на пять секунд накрыла брюнетку и поплыла вместе с ней к тандыру, застывшему, как парчовый прогал, которому пристало маячить в дворовом тупике. Тот же ребенок немного правее пекарни, пиная лянгу, пробудил дважды в стоп-кадре кропотливо отсутствующего бронзового мальчика, вынимающего из яшмовой пятки вечную занозу под алой криптой; второй прикидывал что-то в уме, твой близнец, дурацкая рассудочность золотой нечаянности, питающей богов, – впился глазами в вулканистую фактуру садового дувала, чья отогнутая тиара слегка уклоняется от филигранной натуральности синьцзянских* роз, и к ним вплотную над коридорным отверстием, как мозаичный волхв, склонился в битых стеклах предгорный шлях, ведущий к памирскому хребту, а ты ронял реплики из Дзибальдоне, "сколько помню, считал некоторых стариков красивыми – красивее, чем иные молодые", на скатерть. Гораздо позже на тутовой ветке внутри фотографии желтый зоб горного пересмешника вспухает несколько секунд вширь и всуе: ни звука, который, казалось, сразу сник – прежде, чем в чутко вестибулярном сознании четырех слушателей вдруг зашевелилось теплое наваждение сочного щебета. Зрелость, думают одновременно второй и третий, предусмотрительно сказывается в тот одинокий момент, когда уже никто нас сзади не приветствует свистом, и мы пересекаем мраморный майдан и сворачиваем за угол мимо послевоенных бараков, где под вечер в семидесятые годы собирались приблатненно сутулые, плоскосмуглые, двуязычные эфебы с едко-зеленым, шелестящим запасом жевательного крошева в тыквенных колбах. В ответ четвертый, назло нам, уставился на ястреба, на этот вуайеристский мираж – тем не менее в поле зрения входят мужская грудная клетка, впалая, как середка стеганого одеяла в поминальный полдень, и брючной пояс, стянутый хипповой веревкой, как у каландара* в Кокандском ханстве, знающего, что ему в изгойной метке запрещено носить белбог*, что ловкая смена чесоточной власяницы, колючей дервишевской облатки на тривиальный наряд мелкого купца влечет скорее небытие, которое надо еще заслужить, чем аффектацию и азартную ломку иерархичной мизансцены. Но птица на передней шелковичной рогатке старается недвижней и четче сквозить в изнурительном фокусе, как богоносица, как камертон между пальцами, указательным и большим, медноволосого тапера, – вкрадчивый трэвелинг всего лишь полоснул крымско-татарский кадык, на который смотрят два его сына (в сладеющем зное крупная муха быстро кружится под комнатным потолком, но тень ее мечется снаружи, вне дома, над моргающими жилками фиолетовой дороги, скрытой тщанием пыльцевого алмаза для оконных стекол), не истощаясь, и упорствуют на зальном ковровом настиле, выискивая в снимке остановленную рань родниковой и статичной общности. Где теперь брюнетка? – наверно, сгинула в крымских коллизиях или умерла, как многие из тех, кого мы любили, не обмолвившись с ними ни словом, и первый откинул волосы назад со лба – конус мужского взмаха, благосклонного к его клятвенно разжатой руке, сквозь которую зыблется муслиновый смерч в дневной дальнозоркости со смуглым незнакомцем иберийского типа, чья фигура уменьшается по мере укрупнения за городом аувальских холмов, обещающих своей массивной высотой успокаивающее зрение равнинное плато. Остальных, кроме вас, настигла та же участь, которой не противилась их средиземноморская внешность. Кто-то наверняка продолжает чтить этот обыденный омут, прикинувшийся залитой солнцем компактной флегмой завтрашнего Воскресения. Никакой небесный крах не угадал бы в том июньском гнезде нынешних птенцов скучного Суда: мальчик под пекарней уставился через раскаленный проулок, короткий и блестящий, как перочинный нож, на открытое окно вашего отца, который, не поднимаясь с искристой циновки, поворачивает голову вправо и бросает взгляд на зияющий проем кабинетной двери, на близнецов, занятых в гостиной созерцанием фото, – дряблому, квадратному глянцу тридцатилетнего изображения приходится быть не более чем вещью, которая не хочет хотя бы "вежливо послать" его сыновей, укоренившихся над ней, подобно непрошеным ангелическим стражам, пусть педантично бескорыстным в нерешительной зоркости, как если бы те, мертвые внутри снимка, беструдно учили их чувственным секретам утраченного отдыха, зашифрованного в заурядных импульсах определенной эпохи. Отец – по крайней мере через две-три недели такая слежка кончится, – завязал с пристальностью, когда дрожишь от собственного взгляда, присвоившего, как лугаль, череду прогоркших провинций в долине. Пыльная молния редкого ветра вырвала из козьего руна (дыбившегося в седле улакского мастера) колтунные шерстинки и расшвыряла их в одночасье по мгновенно заштиленному пустырю – они скорее хрустели в броском безлюдье, чем золотились, похожие на магнитные зерна, что, по идее, целыми днями прячутся в круглой, треснувшей, как спелый гранат, горной породе и лакомятся своим схимническим укрытием, обросшие какой-то мшистой артикуляцией Дьердя Черхалми, который с покоряющей чопорностью вещает, эсперанто против уединения, по радио, хотя отец мысленно отступил на шаг от первого попавшегося запустения, настолько обширного, что оно прилипло к его ногам, как лоскутное желе, – кто-то, забредший чудом в гармсиль* и с трудом найденный факелами исконного удушья. В довершение всего, наперекор только что установленному с собой инстинктивному сговору (на восемь, от силы на девять метров), он, опять мысленно, прошествовал к солнцепеку, вряд ли думая, где (по Уильяму Джеймсу) ореол поверх предметов, – голос отдает итоговым безразличием, в котором заранее готовится петляющее затухание патерналистской воли. Потом вовремя возле его спины прошуршала бумага, словно последовала за ним или его тело затылком попятилось за этим шуршаньем (захлопывающейся книги над чеканным именованием Чеков – я ввел в обычай даже в присутствии сыновей, двух живчиков, подражавшим последним персонажам Г. Ф., иногда перечислять их, – Бешбола, Окарык, Янгичек, Ярмазар, Чекшура*, неполный список локально-чванливых начертаний, который на ковровой, стенной картографии мальчик исследует пятерней в оседающем сегодня грудой кровных глин крымско-татарском доме на фото, вложенном закладкой в бувар и пекюше карманного формата). Книга захлопнута у ног письменного стола в родовито синхронных стеблях несъемной циновки. В распахнутом окне под бой бейкеровской перкуссии улакский кон сужается, как тилака, в мимической мистерии хриплых всадников. Хануз шу ерда сен, по крайней мере через две-три недели. Без голосистых корифеев, без признаков эшеровской копии с запрокинутой головой кто-то просто захлопнул книгу, чтобы посмотреть в окно, откуда мальчик успел исчезнуть, освободив свое место ключевому за весь день зрительному дефекту – элементарной очевидности странноприимного юга, этому запасному эпическому трюку многолетней ферганской идиллии. |
1 Пришел сосед, мим, торчит уже целое утро на подметенном пороге, полуоткрытый рот, рокмен на окраине города, рукава нательной рубашки закатаны до предплечья, ягтаг*, и черные волосы на мужских локтях шевелятся на слабом ветру, но смотрит на ваши лица без напряжения, как на затылки или на вьющийся пылью мыс вдоль высохшего озера, хотя на версту несет от него на время притихшей дрожью, захлестывающей подчас немых на юге, почти заразительной дрожью, которую не улавливает никакой сейсмический аппарат, – около трех минут указательным и большим пальцами левой руки мнет явный довесок, землистое кашне, символизирующее, наверно, под его голосовыми связками падший герб всех безъязыких; стоит у входной двери, отворенной настежь, на фоне желчных, ветвящихся пустырей и рассказывает в своей манере, запястья порхают, что живет в сплошной рутине, ненавистная спиногрызка на кухне вечно пилит, но как-то раз отправился в книжный магазин купить дневники одного бельгийца о путешествии на Крит, еще до археологических штудий Эванса, такая панацея для некоторых типов, пребывающих в кризисе, и тут встречает друга детства и юности, в общем, тот приглашает к себе, великолепная, говорят брови, вилла за городом, голубая пирамида в подошве холмов в древлепышном затенении урюковой рощи, – вдобавок даром оживший шифр братских жестикуляций всласть и метко взывает к бессрочным деталям атмосферной картины, в которой играли в лянгу, сбегали с уроков, слушали Cream, кадрили хипповых, искристых куниц в ирисовых платьях, душистый укор вьючным, вислоклювым домовницам с обведенными красной тушью стволистыми глазами, но вдруг, словно само собой разумеется, теряет сознание, в бесфабульной коме твой негероичный Феб, успел он вдогон послать эфирному двойнику, и плывет за темными стеклами в тихом джипе, чьи крапивные фары, поимые средней скоростью, выхватывают из постного предвечерья серистую долину, и в мозг сочится фальцетный гудок почтового рожка, подходящий, скорее, альпийскому загробью; не знает, как вернулся домой, – она, бледная, молчит, впервые ни слова, по векам вижу, пропал на пять дней, садится на диван, – воздух выдал продолговато-ворсистый предмет снизу, – и моментально вспомнил, что друг-то умер тридцать (сейчас ему было бы, примерно, пятьдесят шесть) лет назад, – сбил фургон, когда с двумя виниловыми пластами под мышкой, Катарсис Чеслава Немана и какая-то ранняя вещь Ten Years After, переходил "зебру". 2 Возвращаясь с мазара*, на повороте мопедного марафона, заросшего звездчатой колонией смолистых швов, перед пешей полосой, среди словно раздвоенных, навозно-шиферных кибиток, обратил внимание на три темнолицые фигуры в тени саманного дома, месившие босыми ногами иссера-серую глину для нового дувала*, – молодые тополя, как серебристые ангелы фриулийского пейзажа, клавишной дугой замыкали всхолмье потных спин перед лучистым, глухим безветрием над влажной дворовой землей в промоинах отведенной сюда арычной воды. В прорезях тонких пирамидальных деревьев застряли нитевидные пустыри, завершавшиеся железнодорожной ветвью, за которой вправо-влево тянулись низкие выбеленные стены. Замедлил шаг на шесть-восемь секунд, прощаясь с тем, что незыблемо пребудет здесь, на городской окраине, как верная своему периферийному месту в грядущих повторах, отставшая от безвременья, порционно скудная, корявая, неподъемная горсть Тысячелетнего царства. 3 Б. Н. вошел в пустое, словно еще необжитое помещение маленького почтового отделения, первый утренний посетитель, и сразу удивился тишине, очень светлой, если б ее можно было увидеть. Молодая беременная женщина за полированной перегородкой с мягкой сосредоточенностью, закусив нижнюю губу, наливала из термоса чай в желтую фаянсовую чашку. Она подняла голову и, очевидно, заметила незнакомца, даже не взглянув в его сторону. Поперечный барьер из темно-красного дерева отбрасывал на цементный пол тощую тень. От стен, от потолка, от стекла, от кактуса на подоконнике веяло зябкой чистотой, и чай, казалось, дымился и постепенно остывал внутри некой приятной свежести. За окном открывался голый, безоблачный пейзаж – пропитанная солью пустошь, пестрящая бугорками и пятнами жалких безлиственных всходов. Черный шнурок внизу, у дверной балки, следы детских пальцев, испачканных обмякшим шоколадом, под оконной перекладиной, жирный ожог от сигареты на исцарапанной ручке стула, серая пуговица на полу – мужской взгляд, становясь как бы точнее от соприкосновения с ними, выхватывал эти детали из неприхотливой обстановки и терял их в ней, как отблески смысла, пока непонятного ему. Б. Н. обратил внимание, что женщина была одета в плотно-голубую кофту с мелкими елочками, какую носила его мама. К тому же знакомый, какой-то родной ритм выпуклых линий ее просторного платья ненавязчиво внушал ему что-то смутно-близкое, что-то большее, чем он видел перед собой. Три воробья, обрамленные аркой окна, висели на тонком проводе, что был протянут, точно бесконечный волос, над пустырем. Но женщина осторожно, заботливо пробуждая свое отяжелевшее, новое тело, поднялась с теплого стула, приблизилась к окну, заслонила его, выглянула зачем-то наружу и так же бесшумно, оберегая себя, вернулась к столу. Однако три птицы – как не бывало – исчезли, будто женщина вобрала их в себя, опустошив оконный проем. И тут Б. Н. почуял "это": какое-то уверенное блаженство, возникшее в нем ниоткуда, вопреки его воле. Он погрузил руку в карман пиджака и вынул несколько монет. Сейчас плоть Б. Н., похоже, сама не хотела лишиться этого чувства, как если бы оно было исключительно важным веществом в его организме. Женщина бросила белый кубик сахара в чай, и Б. Н. протянул ей деньги: пожалуйста, конверт, сказал он, – вот этот. Безликий, исчерканный канавками пустырь, расширявшийся под окном, устилали смелые ростки, подобно несмываемым свежим мазкам, нанесенным солнцем на морское зеркало, эмалево ясным, резким искоркам, которые Б. Н. ощущал боковым зрением, сидя за плетеным свободным столиком летнего кафе у взморья, и расплывчатые, безлесные террасы виднелись вдалеке на правом побережье этой водной равнины, пронизанной сочной синевой. Б. Н. быстрыми глотками отпил из чашечки кофе, стараясь не думать о странном томлении, вновь охватившем его, стыдясь беспричинной тоски, которую он испытывал в эту минуту с особой остротой, словно в ясном воздухе, где-то поблизости, таилась незримая вибрация, как след волнующей музыки в том месте, где ее уже не слышно. Зачем он приехал сюда, в этот курортный городок, где, в сущности, ничто не поможет ему и никто не объяснит, что с ним происходит? Волнообразная дрожь перистых прибрежных кустиков, дробящийся шум прибоя, крик чаек без высоких нот – все это билось ровно и аккуратно о вольный, гибкий воздух, лишенный злых испарений, крошилось, собиралось в комок, отплывало, стремительно набегало и снова разрывало какую-то бесплотную черту. В жаркий день здесь малолюдно: только официант, скрестив руки, зевает у кирпичной приступки и пожилая чета облюбовала столик возле каменной ограды. Муж, одурманенный солнцем, закрыл глаза и слушает ее; она говорит и умолкает, и опять говорит, подкрепляя рассказ движениями рук, а он словно бы краем слуха наблюдает за ее жестикуляцией. Едва ли они обманывали себя, сидя вот так, друг против друга, одинокие и счастливые, едва ли они боялись чужой природы, этого сигнала "оттуда", ибо сейчас, усмиренные белым раскаленным сиянием и необычной тишиной, какую рождал неизбывный морской гул, они стали никем, и лишь их одежды – однотонное коричневое платье, неброский платок с китайскими рисунками, брюки в полоску и зеленая рубашка – были еще ими, супружеской парой. Б. Н., завидуя им, внимательно, не мигая, рассматривал их, хотя при этом сохранял неопределенный, отрешенный, безразличный вид, но если бы они встали и покинули кафе или даже переменили, незаметно повернувшись, позу, он пришел бы в отчаяние. В сумерках Б. Н. опять увидел их – в загородном поселке, прилегающем к заливу: они стояли около пустого грузовика и заворожено глядели, взявшись за руки, на двух мужчин в замызганных штанах, несущих к безмолвной пристани свиную тушу. Мужчины хмуро держали ее, расположившись друг к другу лицом, и были схожи донельзя ростом, цветом кожи, внешностью, и в неверном, меркнущем освещении чудилось, что груз, еще не остывший между ними, разрезал надвое одно существо. Старики, не скрывая изумления и еле дыша, уставились им в спины, покамест те не превратились в бесформенный, тающий узор медно-бурой темноты, что неумолимо наползала на окрестное селение, опутывая мглистым слоем разбросанные домики. И вдруг женщина, улыбаясь, метнула беглый, "посторонний" взгляд на Б. Н. – вернее, она улыбнулась прежде, чем устремила взор в его сторону, и было ясно, что старики в это мгновение далеки от всех остальных, и никто им не нужен, потому что каждый из них только собою мог утишить страх перед плескавшейся в сером полумраке далью. Терпкий, сонный ветер время от времени выдувал из вечернего платья старухи сухой шелест. Б. Н. зашагал вниз, к тускло белеющему у дорожного склона причалу, где шипели бурлящие сгустки пены и, накатывая, смещали песчаную сушу, отодвигали ее выше к заросшей сизыми стебельками отмели, неумолчно клокотали, предвещая мыльным, кипящим свечением рассвет, который Б. Н. встретил в глубине поселка, в захудалом рыбацком дворе, прислонившись для отдыха к отбеленной солнцем стене, изможденный и уставший после напрасных ночных прогулок. Неподалеку под соломенным навесом, напевая песню, стирала белье простоволосая девушка. От ее бесстрастного гортанного голоса у Б. Н. щемило сердце и кружилась голова. То и дело стряхивая с себя оцепенение, он глядел на окошко, уставленное цветочными горшками. А песня, не обрываясь, сменялась другой песней, такой же сдержанной, тихой и все же сводящей с ума. На припорошенном пылью деревянном пороге появился, загородив дверную крестовину, высокий мужчина в полотняной рубашке. Он постоял немного у обветшавшего крыльца, вдыхая полной грудью воздух, в то время как Б. Н. весь напрягся, сжался, одеревенел, будто в ожидании чего-то сверхъестественного. Мужчина, ни о чем не подозревая, нахлобучил на белобрысую голову кожаную фуражку – настолько простым, почти радостным жестом, что Б. Н. почувствовал, наконец, как медленно возвращается к нему жизнь, пока женские пальцы безотчетно искали конверт, указанный покупателем, выбирали его из кипы цветастых бумаг, и крошево сахара все растворялось в чашке. 4 "Рабочий класс идет в рай" – после просмотра черно-белой ленты (целлулоидное вещество, когда режиссер мертв, больше вбирает, чем отдает) в летнем театре, примерно через двадцать-двадцать пять минут, он уже стоял перед фасадным полотном бирюзового жилья. Одна фраза ("я была..." – дальше неважно). Она произнесла одну фразу, но он смотрел мимо нее или просто не хотел замечать ее голоса. К тому же она улыбалась за оконной занавеской в тектонических фиалах одолженных лучей, прекративших недавно жужжать в киноаппаратной, – казалось, эта смуглая женщина флиртовала с его правым виском и скулой сквозь истонченный жарой тканый фильтр, и он рядом с нею боялся дышать, будто она была собрана из мельтешения пылинок. Через распахнутое окно в большой комнате большого одноэтажного дома был виден полированный стол, на котором июльские муравьи цвета свежего дегтя облепили мертвую пчелу, как военные механики в коричневых комбинезонах, торопливо демонтирующие вдалеке старый бомбардировщик, безропотно и дебильно лежащую на брюхе агонизирующую опасность, и под выбеленным потолком в косом отрезке солнечной полосы вращались воздушные хлопья, колеблемые в плавном кружении весом своей невесомости. Туда она поплыла спиной, вглубь помещения, как девушка в Грузинской хронике XIX века, поплыла спиной в прямоугольном зиянии к холодку настенного ковра, вечная сестра лучшего друга, крымская татарка, от которой веяло балканской терпкостью, – это был свет, какой исходил от мимолетной депрессии в семидесятые годы, и ровный уличный сквозняк цедил за мужскими плечами сквозь плоский квартал снежный пик, служивший призрачной гермой, единственной границей дуговидной долины. Правда, иной раз вблизи дул ветер, всегда вспять, усиливая уверенность внимательного наблюдателя в том, что здесь окрестность скапливается в тупик, образующий Фулу, край земли, но последней исчезла в комнатной полумгле ее, действительно бледно-мраморная, рука, мелькнув в дверном проеме на заднем плане, как рыбий хвост в озерной тьме средь бела дня, а тут, в годовом муаре тротуарных колец, the alley cat dies of a migraine. |
Спалить всё, волосы, мебель, повсеместную взаимность солнечных голосов, магнитофонную ленту в светлой рутине, книги, которых сейчас даже не успеваешь окурить неверной радостью, одноглазую луну, эту лживую слюну на лбу мертвого мужчины. Река течет без волн, кто-то из вас идет за ней по берегу (залатанный рюкзак, узкие льняные брюки), прах еси, – к жилищу старогородского друга. Хотя он прошествовал мимо бесцементной, разъезженной колеи, на которую отбрасывала тень выя плоского дома, его легкий бред вился в другом направлении (небесный ком напряженно алел, как елочная красная игрушка пятидесятых годов, нечто дореальное, обретшее плоть в маленьком предмете, но камера снимает землю, дно безводной канавы, ломкие, дощатые губки с поперечными отверстиями, свирелевидный труп мангуста, перистые катыши, сложенный из газеты головной убор, качающийся от слабого дуновения, как яхта Шелли): Billboard, думает он, 73-й год, Will it go round in circles Билли Престона, на третьем месте, Kodachrome на пятом, Shambala (Three dog night) на десятом, лучший альбом – Living in the material world, но в Мелоди Мейкер, тоже 73-й год, Can the can на первом, One and one is one (Medicine Head), типичный намек на пуританскую поэзию, на пятом. По асфальтовым плитам семенили пухлые горляшки, словно евнухи, гуляющие по тернистым общим дворам. Второй персонаж сидел на каменной скамье, сохранившейся со времен шейбанидов, и смотрел перед собой, прищурившись, будто прищур был ясным взглядом, обращенным на отцовский дувал*, по которому бегали яркие ящерицы, и на кору солярного ивняка, натянутого до бледности, как карта Сардинии. Сегодня он проснулся в шесть утра, чувствуя себя на волоске от истерики, хотя вроде бы испытал всего лишь робкие уколы странных духов, и до спальни с распахнутой дверью доносилось шипение боготворимых им выжженных всходов на пустыре, повторяющем мутность глаз местных жителей. Через минуту гость приблизился к скамье, ты встаешь, и вы удаляетесь со сцены, exeunt, кимсан* и бирдона*, его друг. Фергана, 2000. |
Странно сидеть рядом с ним, Терей, только без сына, и хохолок белый, но в любом случае надо задать несколько вопросов, коль выдалась такая возможность, – кресло напротив кресла в душном кабинете, ледяная сдержанность при его наглухо прокопченной солнцем смуглой внешности, вязкий прищур над лепестками склеротичной скулы, скрывающий медово-ртутный, немного приспущенный, буравчатый взгляд, каким смотрят на дерево, по стволу которого стекает клей. Подобного человека можно представить в раскаленное лето возвращающимся с работы под вечер по закоулкам южного городка вдоль иссохших подворотен в домашнюю прохладу крайне усталым в помрачении потного бессилия, таким поникшим, что, наблюдая за ним, чувствуешь себя клятвопреступником. Вдобавок от его лица веет чем-то рытвинно-липким наподобие дополуденной грязнотцы мерзлых пастбищ в конце ноября. Наверно, держит, как пифагорейцы, свою постель свернутой. Но в комнату сочится солнечный свет, раздвоивший любекскую стену по диагонали в давней галлюцинации нелюдимого эльзасца. Где ваша улыбка, господин Штрауб? Дубовый придел, осенняя дробь ломкострунных веток, внезапный прибой на холодном берегу в монтажной срезке, серый клавесин. А в тутовой роще заливается жаворонок, и чистые линии бирюзовых одноэтажных домиков пятидесятых годов усугубляют сиюсекундность длинного предместья, прерывающегося по наклонному квадрату дынным каре: там, посреди пологой бахчи, как неотменимость, торчит слегка подрагивающее на знойном ветру картонное пугало в приталенной когтистой власянице, будто наспех заготовленная персонификация докучного озноба. Тканые иглы поверх его хлипкой шеи потемнели от брызг расположенных в сторонке дождевальных установок – причем влажность его тряпья тоже выглядит фальшивой и проверенной кое-как на глаз для студийных съемок, и все-таки пытаешься выяснить, какой фильм первый в вашем списке... Вы не расслышали? Дневник Магдалены Бах (значит, не расслышал, значит, белый хохолок вертко сумел упредить едва набухший вопрос – еще те замашки, не проведешь его на мякине), говорит, – мой несгибаемый Жан-Мари, почти святой, думает он, беспримесная сухость, отчеканившая литургическую привязанность ее семьи к определенному месту, чье описание поддается лишь стенографическому письму, думает он, и еще одна ранняя документальная вещь Шанталь Акерман, бельгийки, говорит, тридцатилетней давности, если не ошибаюсь, – кто-то (скисший нектар жжет аспидную листву) стоит в окрестностях Язъявана* по левую сторону перепончатых курганов под виноградником, затылком прильнув к бесшовной в клинчатых свастиках манихейской плите, к тупому тылу гранитной подковы, что образует вход в некий тектонический паноптикум, и тут ты проснулся в сердце зимнего Брюсселя, возле церкви Святого Иосифа, на парковой скамье, Сен-Жус, они произносят, франкмасоны, "после римлян мир превратился в пустыню", сказал ведь, и все равно гильотинирован поутру, – ученица Андре Дельво, зеленая рубашка, зеленый плащ, сентиментальная мистика Зеленого Генриха в поезде подле Анны, купоросная взвесь отсекает аллейный щебень от гулких голубей, попавших-таки в ее "Пленницу". Да, подозрителен, ассирийский амом лучится на его губах, не доверяет никому, – про себя, вероятно, называет меня карпатским кугутом – бормочет, откуда? из Львова? – пришлось выдумать, не сразу угадаешь, что по нему дурдом плачет, сторожкий до еканья, те двое, сосед его и друг (наш учитель, говорят, открыл многим – сколько ему, под восемьдесят? – глаза на и т. д., помоги, притворись, пусть поверит, что) часами на террасе пьют крепкий чай с его женой, пообещали... а то навряд ли согласился бы, – Бордо, где его сразил Аполлон. Лиценциат Самсон Карраско и Дон Ки... Ладно... Потом спрашиваю, ваша такая-то короткометражка была показана, по слухам, в архивном киноклубе, основанном Йонасом Мекасом более полувека назад? Удивлен, усмехается. Как страшно! Муха на исходе столетия бьется о стекло 1946 года. Наконец, удостоил гостя костистым шепотом, детали той премьеры, говорит, вылетели из головы, хотя сохранились две сцены нью-йоркской поездки – мой тлеющий мозжечок в плавном кружении чинных событий запальчиво забыл о них забыть: слизисто-мутный атлантический запах и Кэролайн-стрит, где внучка Сикельяноса читала свои стихи. Признался, выдохнул острую ость куцей картины, молчит, перевел свой подбровный зум в угол, в кабинетную нишу, в которой пятнисто поблескивает cobra, медный трипод без камеры. И в чем его заскок? Вовсе не похоже, что рехнулся, taedium vitae. Вид у него, впрочем, чуть мимолетно-чужой, как если б он только что погорячился появиться на свет, как если б он до сих пор не преуспел в перерождениях, и за его спиной в окне без штор камни лежат на заднем дворе в безводной канаве по темя в охристом намыве косой пыли... Бади, крикни в скудельную щель, Бади, ты же курд, вернее, мужественный, крикни в яму, Бади, возьми в машине 200 тысяч туманов, слышишь, фермер, солдат, просто брось – мужская тень, погребенная глыбой гудящего песка из громадного ковша иранского экскаватора, заглядывает в сыпучую, садекхедаятовскую хлябь своего бездонного жилья – булыжник в эту выемку, последнее ложе, статисты, старый азербайджанец поет песнь на тюрки, на фарси, поет, офтоб* восходит, чтобы тот же соглядатай, тот же серафим-наблюдатель, тот же ваш (их, наш) немотный сородич стоял по-прежнему под виноградником, опираясь затылком в центре кубистской котловины о губчатый столп доисторического вздутия, – темнолицая помарка вострится, откаймленная лезвием осколочно скалящихся, битых бликов. Таков язъяванский пуп вашей долины, где якобы вершится, думает гость, жениховство земли и неба, хваленая дыра, язвящая память, лежбище индоарийского оракула. В этой вулканической трещине, в адырах, в песчаных впадинах с минутным интервалом по излому исцарапанной мантии мерцают зрачки напрягшейся магмы, что растет, пластаясь, до верхней подпочвенной коросты, пока магнитный морок не прорвется сквозь предгрозовой дымок над алайским хребтом зубчатым отсверком, разрезающим пополам коричневый горизонт, как вчетверть прогнившую аристофанову грушу в "Пире". Правда, за придорожным щитом сейчас вместо молнии пейзажный скат стегнула пурпурным хлыстом дневная даль, потащившая вглубь равнинного ландшафта низкие дома с золистыми, затравевшими кровлями, бетонно-муаровый морг на краю кукурузного поля, перистые тени телеграфных столбов и по фасадному ребру пригородного строения соскальзывающую долго на выщербленный приступок ямчатую хризалиду шелковичную, золотистую химеру, чей шершавый панцирь походит на желто-створчатую дверь, распахнутую в обширную столовую на фоне застекленной веранды, где какой-то пятидесятилетний тип в рубашке с двухпуговичным воротником под хаки с залатанными предплечьями в беззвездных шевронах, морщинисто-чахлая женщина в огнистом, хонатласовом* платье и третья фигура в бежевой боксерке пьют чай за бревенчатым столом. Кажется, втроем они заняты поздним завтраком довольно давно – сидят над пиалами, слегка сутулясь, будто празднуют скуку, неотвратимую в июльском воздухе. Мойры без челнока. Трижды вторящие друг другу зернистые затылки бьет мерная дрожь от жужжащих струй в дельтовидных лучах из чудом выжившей киноаппаратной, прожигающих экранную стогну перед зрительным залом. Нет, не подведет, говорит хаки, в целебно мягком голосе гасится женский вздох, нет, не подведет, говорит, вроде бы потомок Стефаника, горлицы воркуют у них, "куль-чицкий, куль-чицкий", подвернулся на позавчерашней вечеринке в таком-то доме, нет, не подведет, по счастью, заглянул к нам в субботу, когда досуг учителя как раз особенно долог, нет, не подведет, энциклопедист, шуршали шальные языки кругом, умница и все такое, – повезло, что предпочитает "травку", но важно, чтобы нашего не заело в пифийском резонерстве на истощающей зрение щелясто-ржавой безликости язъяванских руин, которые ему, мол, неймется снять на пленку; свихнулся, шипел снаружи люд, я не верила, сияй, ты, чокнутый смарагд, не подведет? – нет, не подведет, говорит хаки, – ведь видно по незнакомцу, что дух следует за ним явного кайфолова, то есть жало в плоть обречено предстать для него лишь опасностью остаться навсегда трезвым... Спрашивает, как вы пришли в ки... На поезде, отрезает Джон Форд, в то время как за кадром Питер Богданович, смущенный, прячет свой профиль в плохо проявленной, с передержкой, выгоревшей прерии, – тебе пристало, скорее, мгновением позже промолвить, вас многие сравнивают с Мануэлем ди Оливей... О, до него мне нужно добираться не меньше двадцати лет. Витийствует вполне здраво. Положил правую руку на подчеркивающий в кабинете рельефность кресла хитиновый подлокотник, успевший тут же, как встарь, исхитить скаредность усталого жеста. Когда-то, думаешь, сторонние глаза наверняка тихим блистанием радовал оливковый окрас вашей кожи, как на лицах ни о чем таком дивном не помышляющих, любимых вами средиземноморцев. Никого, думаешь, никого – лишил заранее своих нерожденных детей спасительной (для них) заботы жалких о жалчайшем, о вашем августейшем увядании в надежной коричневе саманного приюта, плывущего по долинной стерне. Словом, говорит, надо сладить с укоризной памятливых самовнушений (но ты не просишь его подобное заявлять), надо справиться с ними, продолжает, рано или поздно, говорит, игры совести во многих случаях оказываются на поверку медленно меркнущим игольчатым искрением чего-то прежнего, что мнилось важным, и всякая сердечная мука рассеется в одночасье, сто́ит вспомнить, как мягко, неспешно, с трогательной тщательностью собирают вещи в дорогу, складывают их в миниатюрные чемоданчики пожилая чета в "Токио-моноготари" либо девушка и старик в "Поздней весне", словно терпеливо, с отборной осторожностью отделяют узкую сумеречность драгоценных цифр от жемчужных винтиков под шелковистым гулом сетчатого вентилятора, прилаженного к потолочному своду, в мастерской киотского часовщика, перед сном читающего гэндайси Симадзаки Тосона. Да, говорит, дальневосточный классицизм... – о, Одзу, дочь умоляет отца не одаривать ее "другим" счастьем, ей и так хорошо, когда она рядом с ним. Что-то общее с эльзасцем? – тесный, боковой свет еле брезжащих мимических ритуалов, запертых в комнатных скобках колдовской косности, не обещающей ни свежести случая, ни вознесения. "Вскорости мой муж изобрел нотную тетрадь и для меня", записывает в дневнике Анна-Магдалена. Вы мечтали в юности так снимать? – спрашиваешь. Вдоль окна без штор проносится колкий и жгучий гармсиль*, отдергивая бледно-фиолетовый сор от бугристых дворовых каменьев, – завихряется на пять-шесть секунд за стеклом шелестящим пробелом. Вопрос, оставшийся без ответа. Сельский врач Австро-Венгерской империи. В одной ленте какого-то фильммейкера с изощренной фамилией попалась эта вещь Айвза. Увидеть услышанное, нет, наоборот, – опус, выгравированный на меди в Михайлов день, когда залитый каким-то мякотным веществом или цементом орнаментальный вол осеняет стенной фонтан. Снизу вьются туфовые ступени. Взамен отклика хозяин вдруг почему-то признается, самый мой мощный кумир в начале века (но ты не просил его расколоться), Педру Кошта, говорит, – ворвался в нашу близь алтарно-лавовой надписью, остов, ossos, стихийное крещендо приторного кочевья. Ты не просил его, но чувак опять крутит свою заигранную пластинку. В принципе, говорит, можно показать в той же манере, допустим, Язъяван, его хлевную, терпкую почву, забитую соцветием окаменелостей, что спокон века имеют симптомы безжатвенного, сохлого, степного дна, – лаконичные, извивисто-укромные, выжженные полупустыни, чью малую протяженность меряет заплутавшая тут в тоске по дикой наготе ландшафтной эрозии твоя зоркость, которая, правда, знает: позади оазис. Затем учащенней сбоку зыблется вверх узловатый вал сыпучей растительности, придающей низине цвет пшеничного зерна, что наводит на мысль о двадцатилетнем сарте*, погибшем в битве на Марне в четырнадцатом году, – отнюдь не pro patria, не ради хмельного, материнствующего доминиона. По идее, те трое на задней сцене разместились в торжественной тревоге полукружьем за бревенчатым столом, будто настроились привечать кого-то незримого в продолговатом, верандном подворье номадической общины, застыли в уцелевшем отрывке древнего приветствия. Согнутая над скатертью в огнистом, хонатласовом платье – на рассвете детские пальцы вытягивают из кокона волокнистую нить, которую старший работник в шелкопрядильной галерее под вечер должен окунуть в керамическую чашу, наполненную гранатовым красителем, – она сидит на террасе, ничего не ест, тощая, плоть, стыдящаяся Плотина, как если б в метемпсихозу проник изъян, и он, Тиресий (или Терей), в очередной раз обернулся женщиной, – лишь красный чай до края пиалы дымится нетронутым глотком, амбра ее аскетизма. В доме, говорит хаки, совсем не тикают часы, как в опиумном заведении, как в подпольной курильне где-нибудь на глинистом берегу горной реки. Слышно, как прочее не слышно, будто пчелы в отдаленном парке берут с акации взяток. Третья фигура в бежевом вретище морганьем, усилившим хриплую фразу, кивает назад, не клеится диалог у них, говорит, не прибедняется наш коцюбинский, не сухарит, не прикидывается скудоумным – иначе из кабинета выпирал бы патетичный ор голосистой башней. Гость на деле вглядывается мимо как раз упивающегося мимолетной наждачностью собственной паузы юродского златоуста в незашторенное окно, в котором влажно сереют диакритические рубцы тутовых стволов, и немного впереди твои прицельные буркала выпрямляют скособоченный угол стены, выбеленный до уличного поворота, что постоянно плашмя падает в сосудчатый небосклон. Такое чувство, что неизвестный вуайер оставил открытыми и без того открытые входные ворота, когда-то закравшиеся в крайнюю, дворовую заверть. Взор, само собой, сейчас избегает хрустящую дебрь истончившихся балок, шаткую штанину бесполезного шатра, словно черная желчь марает помост анатомического театра, в котором льдистый шепот какого-нибудь мертвого примариуса и его коллег нижется на бессочные всходы, на выжатые образцы прежних операционных кольев. Снова дует сухой бриз. Вы пренебрегаете тем, во что неизбежно выльется то, чему вы сегодня отдаете предпочтение, ворожит вдруг возле твоей внимательности воображаемый укор его вычурной реплики, перегнавшей скрытое намерение скучающего собеседника. Ты перевел взгляд на письменный стол, на карманную книжечку в песочной обложке, filmsturm, Costa, – сценарий, спрашиваешь; трилогия, мы знаем ответ, Кости, Комната Ванды, Молодость на марше, маргинальный эпос, говорит, упасшийся от необходимости объяснять что-либо поверх кадров, где в совершенно плоской достоверности сквозит местопребывание беспафосных правдоподобий, годных зачастую окраинам, неорганизованному обиходу, который не тешится нуждой в дополнительной очевидности: короче, говорит, окраина... короче, этот неполный comos, говорит, являет собой типичное место, в котором исчез натиск упрямо-деятельных, расчетливых сообществ, но сохранилась напористая химеричность их исчезновения... Неожиданно прервал себя, будто вновь откупился от слышимости своего внешнего двойника желчным понуканием свирепого, борзого молчания, – замкнулся в нервной надежде, что гармсиль все же спешно развеет этот фарс шевелящихся губ. Можно подумать, кто-то другой прикорнул в призрачном империале ветхой конки, в которой возбраняются бесчестье, хула, скрежет зубовный. После чего не замедлил локтем задеть иноязычную монографию, посвященную знатоку дурманного Кабо-Верде, и машинально сдвинул книгу неловким, подагрическим щелчком безымянного пальца к середке полированной доски; чуть подался к робкому слушателю с полуоткрытым ртом, нашаривая лицом и черепной коробкой пестрящие комнатный воздух солнечные поденки, и тотчас отпрянул на спинку родовитого кресла, застряв уютно с раскинутыми руками, как огородное распятие, как пугало на знойном ветру в жреческой рванине, как бутафорский кальварий, в почетном месте своего библиотечного пристанища. Необъятность впечатлений, говорит, и моментально вслед за обширным жестом, указывающим на громадность пережитых им иллюзий, сплетает запястья на груди в священном, достигшем успокоения, благополучном скрещении. Viva il duce. Ты мысленно за окном на пустыре пнул самый гладкий, безупречно круглый камень, который покатился к арычному взгорью, поднялся за счет инерции хлесткого удара правой ногой на вершину щебнистой припухлости, замер там и, замешкавшись на миг, ринулся вниз в безводную канаву, как если б ты пнул его во второй раз. Те трое всё еще сидят за столом, сутулые, нагловато-потерянные, хранящие в корявом рисунке своих скошенных тел едкий вес и вековую мелочь унизительной самоуверенности, как приблатненные малолетки с воровским оцепенением на сходке, пока не загремевшие в тюрьму. По всему видно, что трем потухшим чинарикам суждено пребывать в стороне от густой событийности донельзя понурыми, словно пришибленными вредностью или токсичностью своей учтивой удаленности. В придачу хозяин выдает вкрадчивую фистулу, аккомпанируя трем снулым участникам обыденной поверхности, – когда надо что-то делать, говорит, в меня быстро селится черствая беспросветность, горькая нынешность, которую бежишь, незаметно спрятавшись в свою целительную нору, в свой безвидный уголок сирого поклонения, в свой потир, в свою комнату, где проваживаешь монотонность, как дряхлую гнедую лошадь. В работе полагаетесь на затверженный годами стержень, спрашиваешь, на твердь, на предрешенность и навык или принимаете милость наугад качнувшихся вне вас залетных импульсов? – ничего не ответил, вопрос сам ссудит безречье, ватное чародейство пыльной провинции, легшей под кнут астрального безразличия вокруг и замкнувшей кабинетному молчальнику на время мизерные губы. Не дожидаясь следующего вопроса, старик внезапно теряется в настырном и, по сути, безвстречном однословье – сокровенно то, говорит, что сомнительно и на первых порах не вызывает доверия, в моем возрасте, говорит, остается лишь следить, как гипнотичней каждый раз откладывается прямо-таки на глазах исполнение всех сроков для отправленных сюда без вины, пифос, женщина в капоре, две бабочки, объявившиеся над листвой, луговая топь, дошедшая до ботфортов, пуловер, алый, как нерастекающееся вино, в ненастную погоду, херлинг, базар, где волнится весть о сильном вздорожании, хорасанский кумган, конфетные обертки тридцатых годов как напоминание о фрагментарности рая (строительство Ферганского канала; трактор; красный караван; серп и молот, вынырнувшие меловым начертанием на фасадной перекладине сицилийской таверны в "Земле дрожит"), арк, фотография первого выпуска Новомаргеланской женской гимназии в 1904 году (тогда не указывали под снимками фамилии, так как все в городе знали друг друга), хоган, стихотворение Гонгоры, нервюры, бритоголовый подросток подле пекарни, медные щипцы для снятия нагара со свечи, тень облака, перебирающая инжирные сучья сонным намеком на пресмыкание, – минуту молчит, наблюдая, как хлопотливые хлопья подбираются по солнечной полосе к закраине письменного стола гусиной ходьбой дзенских монахов, и выдавливает изустный лонгплей: тем самым, говорит, обманывая себя, бесперебойно заблуждаясь по всякому поводу, говорит, ухитряюсь дышать, навлекаю на свою голову хотя бы налет экстаза, когда кайф немного слаще, чем нужно, ровно настолько, чтобы ручаться за полнокровность своей цепкой, хронической пантомимы, "не сдаваться", – разве не могу насладиться, говорит, узорчатой наглядностью теплых предметов? что, срочно нужно вернуться к драме, к серьезным и колючим заботам важного выживания? если б существовал и впрямь ясный язык явности, нетрудно было б слиться с ним, но, к сожалению, в этот край мы идем в одиночку путаными тропами; настоящесть, говорит, сумеет сказаться, если она решится насовсем пропасть, изловчится сгинуть и не вернется вспять к земному блеску; всюду, говорит, веет неясностью, заждавшейся смирения, но покорность дарит увиденному тьму тем, назло пристальности лишенных покоя, – в "Приключении" кто-то ненароком извлекает этрусскую вазу из полутьмы скальной ниши, где в уюте щадящих веков античная вещь оставалась невредимой, целиком первозданной под бальзамическим слоем аккуратной безымянности, но, вытащенная наружу к хватающим пальцам, она выдыхается в предельную частность, в пустую упомянутость в дневных лучах, и, когда нечаянно какой-то субчик ее роняет, она, замеченная машинальностью властного бодрствования, множится на безвредные ломти дюжинных, дешевых черепков среди береговых, известковых глыб; в очистительных накатах северного ветра шелестят у изножья гертрудовой могилы закадровые анемоны в реквиеме Дрейера; в 1327 году по бенгальскому календарю мать двенадцатилетнего Опу однажды на лестничной площадке резко поворачивает голову влево, к стене, что в двойной экспозиции сплетается с поездом (камера Субраты Митры), мчащимся в Деванпур или в Мансапоту; Эжен Грин в собственных фильмах играет невзрачного бармена либо владельца кафе "Морская волна", nec plus ultra его маньеристской выходки; в "Крови поэта" статуя подзывает быка, учтенную мглой рогатую лиру Раймона Радиге; поляк 20 сентября 1961 года, не закончив "Пассажирку", погибает в автомобильной катастрофе, Мунк, пропуск; в "Пайзе" францисканец нарывчатыми, восковыми руками бережно берет, как амфору, военную каску американского капеллана, увещевающего всех братьев-миноритов после вечерней трапезы в монастырской обители стремиться впредь к молитвенным вехам экуменической терпимости; в "Земле без хлеба" мы видим такой крохотный холмик урдовского младенца на детском кладбище, что мясистая ладонь испанского цыганы наугад его нащупывает между сорняковых ростков и плавимых минералов рыщущим вскользь по горькому периметру скорбной горки мушиным касанием, гаснущим в контровом свете на пустошных высотах, и т. д. Теперь твой прищур, прикинувшийся трансфокатором, плавно приманивает стеклянный прямоугольник, очутившийся на линии дистанционного наезда, – нам предлагают вообразить, как ночью зажгутся звездчатые окна сельских жилищ на горизонте, глазастые поставщики видовой оседлости каких-нибудь каратегинских автохтонов на отлогих склонах овальной долины, усеянной аммонитами и зобатыми лачугами в навозных, плотных замазках, куда вряд ли забредут нобили. В заоконном дворе сейчас бликующие ручьи рассиялись по шиферной крыше соседнего дома. Нужно, думаешь, опять, наверно, засечь седой хохолок посреди кабинетного помещения, выроить из кресла слабнущим слухом бормочущую дрему, древнюю, как омовение ног. В грезящийся кадр проскальзывает стрельчатый дувал, глинобитная стела, на которой нацарапан бейт, в июльском зное стынет сердце в местах, где гулко падаль естся. Терей, будто по сценарному волшебству, замолкает и просто взирает мимо твоего лица на стоящую стоймя за твоей спиной бурую преграду из гашеной извести, покрытую колонией мшистых мокриц, на занявшую весь экран мозаичную макрель. Но в твой прицел впархивает сочным промельком дымчатая горлица, полоснувшая мимо двора палевый воздух. Декаокта, говоришь. Тип напротив кивает, не оглядываясь на окно, будто в средоточии выверенной геометрии гигантского, вылизанного, исчисленного до малейшей допустимой встряски пластико-бетонного нашествия кивком творится мирок частного существования. В затянувшейся паузе всматриваешься в манок сверху вниз мотнувшейся головы и думаешь, мы забудем тебя, чтобы всего тебя вспоминать... непреходяще беспамятство... не верю даже в это, думает другой, опекаемый забвением... безверие надо еще заслужить, думаешь с усердием, натыкаясь на его брезгливое молчание, как если б он освободил и без того не занятый никем участок внутри себя для отладки собственной стертости в грядущих мемориальных списках. Вырезанная кабинетной тенью пирамидка настенной мозаики перед ним сузилась в его зрачке до мошки, до мокко, до переползающего ветвистую радужницу микроскопического зверя, в котором угадывается лишайный мазок на багряной ткани, льняной мокрец на скакательном суставе худородной гнедой лошади (на пустырях, кстати, за окном разметаны одичалые кусты, как кирасиры, утучнившие плато за ночь после кавалерийской схватки, – "Битва при Земпахе", думаешь, написана чудиком вроде тебя, старавшимся угодить Клейсту, хотя бы наскоро завершить, исполнить обещанное пруссаком своей судьбе, – тупая драка в средневековом тумане, чтимая спустя столетия стальной мерой батального мифа). Дитя Довженко, думает старик, знаю ведь, кто ты, сын краснодеревщика, без вида и величия, живешь в бандитском районе за городским базаром, что только не сделаешь, думает, чтобы усмирить анашистский амок, вежливая версия моего лицедейства в следующем поколении... Гарринча, говорит хаки, какой номер был у Гарринчи, седьмой или девятый? Сдуру, говорит женщина, выбежала на улицу во сне, но магнитом притянуло назад, на поверхность, где мне привелось все же проснуться, – не смею, говорит, и там оставить его без присмотра. Один? Что делает он обычно, когда остается один, без нас, – ищет вторую половину груши? Нет, выслеживает язъяванскую высь в лощине, свою щемящую ловитву, – запятнанную чертополохом, яичным желтком, соломой, терновником, илистой мутью сторожевую насыпь над бахчой, над пугалом, и кукурузные поля несутся с обеих сторон к этой возвышенности, облегая ее расходящимся вширь обильным, пластающимся почкованием, как платье Адели Гюго до безумия, – особый сорт здешних видений, лотреамоновская слеза, в которой смоква поедает осла. Нет, не один. Указательным пальцем (на темно-хинном лице морщины взахлест сбираются крестами – наверняка, думаешь, ему подошла бы скуфья, покайся о гресех своих) выводит в пустом воздухе ловушки букв, ровные, словно прижившиеся на незримой доске лишь из-за желания не уступать наитию, правящему кротко миром, и ты читаешь с обратной стороны прозрачности: письмо Луизе Кале, из Круассе, 6 ноября, 1853 года, безличье, признак силы. Седьмой, говорит, женщина, седьмой номер. Помню его гол болгарам в шестьдесят шестом. Ты пытаешься так отвлечься?.. Да, нет, да, говорит хаки и смотрит на верандное окно – считает взглядом карбидные холмы над соседним домом (первый, второй, третий), будто застигнутый врасплох топким поторапливанием их неподвижности. Человек в бежевой боксерке бросает лепешечные зерна через открытые створы летней террасы на дворовую аллею, куда прилетает с послеполуденных, сиреневых небес шуршащая горсть пепельногорлых одалисок, пухлых, горличных комьев, и каждая крылатая гурия, подцепив кольчатым клювом хлебную куколку, взмывает двойным порханием в лазурь над лиственным морионом. На сей раз вы меняетесь ролями: вновь старик без слов навел свои сверла на каплю пряного клея, на твое, как ему мерещится, стволистое межбровье, без слов, будто силясь стать зорче оттого, что молчит около часа в своем кабинетном склепе. Так неотрывно кос его отсутствующий взгляд, что ты взамен фразы, допустим, "перемелется – мука будет" спрашиваешь, почему?.. и т. д. В ответ, не колеблясь, молчит, – хваленая мумия, восседающая в кресле. Моментально перед (или за) стеклом сорным дуновением горный гармсиль отшептал свой глухой, гортанный намаз, будто последний по счету в предместье пыльный проулок в рамадановский пост просто пуст. Между тем справа налево, мимо, мигает дробный мираж – экранируют корни, шелкопрядные личинки, муравьи, персимон, известь, облака, что вплетены в беглую перевязь золотой земли, подплывающей к песчаной пропасти. На закате в угловатых тупиках пригородных кварталов вспыхивают сизоклювые тутовники, и всюду на низких стенах оставляет оспинный след хроматическая немощь – первичная блеклость, не тронутая ни разу влагой броского блеска. Никаких вопросов. Коленчатая cobra, как выросший в комнатном затемнении трехногий богомол, плещется в хилых, редчающих бликах, что, кажется, сошли с резьбы ватно ворочающегося предвечерья, – вхолостую панорамирует по дуге мерцательные, осадочные островки субботнего времяпрепровождения сквозь щелку предметного сумерничания слева направо: хозяин, кресло, книга на письменном столе, гость, второе кресло, дверь, столовая, три фигуры, терраса, окно, в котором бритоголовый подросток, прислонившись спиной к потрескавшемуся фронтону приземистой пекарни во внутреннем дворе, сидит на пятках и грызет запеченную до смерканий в очажной золе черную кукурузу в одном и том же на исходе дня капиллярном свете размазанного по глиняным барьерам заходящего солнца. Фергана, 2011. |
Наш вернер шретер стоит в садовом дворе и курит – аллейная полоса в одном участке в полуметровую ширину заросла мужской тенью, далекой и неподвижной, как утонувший мулат на дне прозрачного озера, над которым проплывает сигаретный дым. Справа все время темнеют розы, высветленные до своей чернеющей кровавости взрыхленной землей, слишком здешние, чтоб истратить свою многослойность, и слишком очевидные, чтобы знать, как они добывают свою бальзамическую мглистость, – сумерки лучших обличий и высшая степень пробуждаться повсюду, discordia concors. Это сильней его (в последние дни, сказал он, от вашей долины веет манихейством), но жизнь идет своим чередом, и ничто не пропало в общих обыденных повторах с тех пор, как греки взяли Морею. Местность до мертвого полигона, до вашего любимого кладбища хранит с фетишистским упорством каждый куст, каждое стенное ребро колониальной эпохи. Этот город, вернее, его западная часть, где брат жены твоего брата бросает сигарету в арычное русло, в котором зашевелилась вода, и возвращается к семи кирпичным ступенькам, брезгливо жесткий от изобилия субботнего света и приворотного цветения вокруг, этот город опечатан слепительно-тенистой сыпью. Чуть позже (пока продолжается рань) кимсан* распахнул узкие входные ворота, в проеме которых на следующей стороне пустынной улицы на глиняной скамье сидит загорелый седой сосед, словно парусник в средиземноморской картине, и жует насвай*, излучая безотрадное спокойствие на фоне залитого солнцем известкового фасада. Лицо у него примитивно мрачное, как истребление кыпчаков в Карадарье кокандской военной элитой. Впрочем, двое прохожих в середине квартала пожали друг другу руки и разошлись, но сзади над окрестной пустошью брезжит хрустяще блеклое рукопожатие, в котором уже вихрятся мухи в лучах поздней весны: совсем сбились с пути вчера в ужасных беседах до глубокой ночи, хлеб, мед, чай, персиковая ветвь, рассекшая надвое за верандой Венеру. Сейчас листья так бессочны, ни разу не шелохнутся из-за утреннего блеска, будто сучья одновременно все голые средь ясной погоды, но шретер, поднимаясь в гостиную по ступенькам, заметил секундой раньше, что поворот одной верхней ветки рыхлого лавра, оставшейся за спиной и указывающей на глубь овального двора, не менялся почти пять лет, как девиз, что остро и дико висит вечнозеленым росчерком в ароматном, диагональном вакууме в семи локтях над почвой, пока твоя племянница несет вдоль коридорных стен в зал, к обеденному столу круглый сават, плетеную корзинку, немного наклоненную к дощатому полу под тяжестью лепешек, и в трескучей жалобе каждой складки ее атласного платья угадываются неподъемные резонансы будущей женской участи. Тут, сказал он, другой, не шретер, кимсан (тем временем я смотрел вправо – сразу в трех окнах обширной столовой по-прежнему виден единственный в долине приземистый курос, один и тот же скорбный ас провинциальной скульптурной невзрачности в бронзовой смирительной рубашке), исчез контекст неких очень важных и крупных заблуждений, тут, сказал он, тебя переполняет энергия только в том случае, если ты не действуешь напоказ, если ты замыкаешься, уходишь в уединение – чем глубже твоя изоляция, тем выше свет: мгновенно длинная до плинтуса оконная занавеска вздулась и вновь вернулась в плоскую недвижность, будто лишь она вняла мужскому голосу и замерла от счастья. (Так они появляются в комнатах одноэтажного дома, в комнатах родных и друзей, на улице, в автобусе, в гуще разнообразных личин, от которых несет артикуляционным кошмаром, в городе, на пустыре, может быть, на стадионе, расточая себя в купели своих вышколенных жестов и взаимной терпимости). Внутренний двор, сужаясь, упирается в продолговатое фермерское строение, за которым немедля сладковатым прямоугольником спускается к соседнему селению православное кладбище, почему-то прямо у горной реки остановленное похожей на седельный лук цементной возвышенностью, что само задыхается в пергаментных щепках бывшей урюковой рощи. Здесь мне с детства мерещились абсолютно алогичные кровные пустоты (когда все конкретное захлопнуто чужой властью), которым я старался навязать чувственные приметы, пользуясь безотчетной смелостью бог весть откуда берущихся аллюзий, не имеющих ничего общего с намеками на то, что существует или числится реальным. С внешней стороны вдоль входных ворот уличная колея катилась вперед к низкой торговой зоне. В одном давнем фильме войцеха хаса встречается такое же сочетание захолустных объектов с очерствевшим двойником какого-нибудь юлиуша словацкого в накрахмаленной безрукавке на переднем плане, предоставленным на протяжении долгого кадра обычному давлению свежих окраин. Однако: почему его зовут шретер, спросила племянница (в том же доме, одновременно, отец моего отца лежит в спальне, дожидаясь по привычке сиделку-соседа, что вскорости придет)? Потому что, сказал ты, потому что он повлиял на всех, а сам оказался в тени. (Нежнейшее эсперанто, понятное моему брату и его дочери, – мое сердце сжимается, когда я слышу их голоса, орошающие тугоухое убранство парадных помещений); шретер и ты направились в переднюю из прохладного зала и дальше в курительную, выложенную синими плитами, с двустворчатой застекленной дверью, выходящей на местную via sacra. Эта древняя трасса обрывается высохшим озером, чье дно пересекают сейчас пять-шесть незнакомцев моего возраста, начиная измерять именно отсюда свои блуждания на измор по маленькому городу мимо пляжного взгорья, мимо скотобоен, мимо ветшающего псевдоготического кинотеатра к базарному центру и всякий раз вовремя теряя сходство издали с тающей горстью парафинных перьев, купленных на барахолке. Ровно в семь ты сел в кресло под открытой створкой и положил как бы в молчаливой клятве на подоконник левую ладонь в прочищенных водопроводной струей мастиковых морщинах, вызывавшую в памяти остров Гуам после 1898 года, но в правой руке шретер держал книгу с отравившим себя чаттертоном на обложке (оссиан, голод, переплетенные бантиком липкие гетры подле милой Темзы). Все же, что вы читаете?– лондонский аристократ и первый хиппи в Англии, рассуждает он про себя, на затхлом и сыром закате к нему домой заходит индус и предлагает опий против дождливой зимы и боли в желудке, the confessions of an eng... въедливое приветствие спасительного края. К тому же напротив его колен (шурин моего брата, шретер, тоже сидит в кресле под открытой створкой, заточенный в кадр, в котором он сидит в кресле) посреди полированного журнального столика лежат запыленные фотографии: черно-белые черепа святых в мозаичных нишах над крошечными кипарисными иконами, изображающими их собственное успение в карпатских монастырях; смутные в рельефных булыжниках дельтовидные баптистерии; алый зороастрийский кумган, забитый останками безвестного солнцелюба нашей расы, – излишний и чужой для горячей и голой низменности культ костей. В любом случае, когда выдается яркая неделя, ты бродишь среди пепельных эспланад и глиняных обелисков на сваях по майдану намеренно в опорках (несмотря на увещевания племянницы и старика, в чью дверь только что постучался ваш сосед, сохраняя мнимую ледяную сдержанность в своей прокопченной солнцем смолистой внешности) после поздних вставаний и углубляешься в "цыганскую пустыню" за железнодорожной ветвью (где обитают, главным образом, поденщики), постоянно замедляя шаг перед граффити на гравийных насыпях, прыщавых, как мелвилловские моряки: в извивистых рытвинах, расходящихся радиусом, читается царь царей, взирающий на корабль дураков, или иные визуальные причуды и притчи. В принципе – другая среда, ложная повседневность и безжалостная логика, другой счет. Почему? В полураскрытом зальном окне явно заметен тротуарный отрезок, вязко-охристый, как молодая разложившаяся плоть, безучастно истаивающая аккуратным пластом на асфальте. По нему минуту назад прошелестела крупная женщина в крепдешиновом платье, справа налево, ее руки пусты, без младенца. По здешним понятиям пока прохладно, хотя, насколько хватает глаз до лысого холма, до угольных руин в укромном предгорье, затянутых кристаллической катарактой, палит жилистая высь. В такую жару свежая скука, как мороз, подирает кожу на любом фоне, и кимсан (или ты) мысленно продолжил свой маршрут, глядя лишь вниз, но через два часа по особому оцепенению, которым вдруг налилась и без того доверху твердая земля, ощутил, что не успеет он поднять голову, как перед ним развернется еще один пустырь, сам автохтонно строивший вокруг себя свободный обзор плотных, угловатых, беспотных просторов. Тем не менее, камера качнулась, сдвинулась вспять, и на передний план вплывает зеркало, в котором отражаются ваш дед и ваш сосед, о чем-то уже стоя шевелящие губами в проветриваемой спальне, – старик смотрит на старика (вполне естественное намерение после быстрых похорон скорее устремиться к мерно моргающим глазам живых), и в пресечении их взглядов пролетает пчела однократной вспышкой, словно моментальность скользкого блеска ее полета засчитывается всеми, и садится на твое правое плечо, приняв его за (потом вы оба, закончив курить, встали с кресел, до бровей пропитанные тем, что встали с кресел) шахимарданский мед, который однажды приснился тебе, превратившись в нормальной нелепости сна в душистое воскресение из мертвых черноволосого мальчика из знатной семьи, – немного выше в столовой возле верандного ганча* третий из нас, кимсан, берет пиалу и, отхлебнув чай, кладет ее на скатерть. Тополиные листья несколько часов дрожат в хрупких и химеричных конвульсиях на глухой улице внутри знойного дуновения, будто зябнут. Я чувствовал, вот сейчас он опять начнет, они опять начнут, его легко поддающийся культурной дрессировке ум и кимсановская податливость, причем тебе тоже придется ввернуть длинную фразу под страхом, что старик и его поводырь, с которым он в сорок пять лет в звании майора очутился на Кубе (после Карибского кризиса, вспомнил шретер одну из реплик одного из ангелов питера богдановича, в мире пропали хорошие сигары), не преминут вмешаться в "наши дела", не дожидаясь вечерней прохлады. Старики никогда не обсуждали погоду, и никто не заподозрил бы в их словах даже слабые симптомы метеомании, никаких воспоминаний, никаких сплетен, – время от времени они бросают любовный взгляд на глинобитную стену перед ними, чья бесцветность предстает теперь как высший вид самой человечной атараксии или как чистейшая естественность в их честь. Все равно тебе не хотелось смотреть на дувалы*, на их тусклость, и они телепатично берегли свою гибкую невзрачность, как бы сторонясь твоих наблюдений. В следующей комнате черный клубок на глазах у племянницы расплелся на ковре, кот, зенон его зовут, он зевнул, за базаром ударили башенные часы, восемь или девять, гладкий отскок мужских губ в зеркале сбоку. Я знал заранее, что скоро пойдут цитаты, и брат в своей коронной бесстрастной манере упрекнет шурина, как ты собираешься... но тот улыбнулся и кинул в сторону что-то вроде – мне удобней, если никто не спит под одной со мной крышей, или – тебе бы самому следовало жениться, или – поставь лучше Who`s next, рок шестидесятых – единственно подлинная вещь, баллады, переходящие в боевой клич... Старики неспешно гуляли по саду, вобрав головы в плечи, выжившие сарацины на склоне лет, и зенон бесшумно подбирался к ним под виноградником. Ты меня слышишь, как ты соби, не говори "море", говори "ммммммммммммммммм", это не имеет границ, но как ты да, никак, льше, молча, просто выберусь однажды, как Роберт Вальзер, в санаторий для душевнобольных доживать последние годы, либо, что ближе к правде, думаешь ты, останешься навсегда в безопасном холодке нашего дома; сплошной одноэтажный свет, ваш дом, построенный японскими военнопленными на могилах австрийских военнопленных, что годились им в отцы, и отшлифованный твоим дедом и его сыном, ныне покойным, по всем законам старогородского зодчества после гаванской авантюры. Я также знал, что он целое лето пролежит на диване с больной головой, пряча в себе хранимое впрок его даймоном какое-то редкое чувство, как золотую монету в зашитом кармане, хотя даже сегодня, пока он ходит по залу или подначивает моего брата, не сыщешь меры его нормальному безмыслию. Две-три картины именно их юности, думаешь ты, что так думает шретер, луговые высоты над пшеничными столбцами, капли пота на лбу лучшего друга, дымчатая робость при первом тончайшем переживании, обернувшемся впоследствии бесславной стальной волей, – если боги и разгневаются, думаешь ты, что так думает шретер, то скорее за нетерпеливость, а не за уныние, когда он лежит на диване без веры и, прежде чем уснуть, чертит большим пальцем правой ноги невидимую заверть на стене, выбеленной до трех изогнутых гвоздей, на которых висят заплечный мешок с вышитыми по центру отблекшими изображениями семилепестковой розетки и буйвола, кашне репейного цвета и шпанистая фуражка, что наводит на воспоминания о воровском жаргоне и привокзальной забегаловке 51-го года. Вдобавок дистрофичный смерч через полчаса, каким-то чудом не истощаясь, плавно рассыпается, как соль, на жгучей периферии среди лесистых стекол на дувальном спекшемся седле, среди слащавых урючин, отравленных теплокровным цветением: то, что остается, – остается общим, и шретер по-прежнему тягуче и медиумически вежливо гнет свою линию – отстраниться, еще раз отстраниться, еще раз остраниться, чтобы увиденные чуть ли не впервые мои окраины обретали всякий раз сызнова свежесть и объем. Позавчера, говорит он, мне приснились страницы выдуманного мной романа, типа "Дитте – дитя человеческое", двадцатилетнюю служанку, сироту, выгоняет из дома на улицу хозяйка, приревновав к ней мужа, зима, январь, Копенгаген, девушку ужасает вовсе не мысль, что ее настигнут мороз, покинутость, голод, бесприютность, ее приводит в отчаяние настырное сознание того, что ей не придется больше никогда заботиться о ком-то беззащитном, о калеке или ребенке, и действительность, не нуждающаяся в теплоте ее сердца, делает ее несчастной, впрочем, неиз, я встал, поправил монголоидную фарфоровую фигурку на черной крышке черного пианино, повернул ее лицом к стене, бежность... С наружной стороны в зальное окно, закрытое днем от пыльных струек мопедной и конной дороги, стучится бритоголовый незнакомец, но вошла племянница в гостевую комнату, где мы сидим втроем, это молочник, хотите творог, да, и зенон вьется вдоль ее икр на аллейной тесьме, обмыкающей входные ворота. Все-таки неужели (кто-то в близлежащем предгорье включил радио и выключил, хотя тут же слышатся звонкое щелканье велосипедного колокольчика и несколько секунд медовых пауз, ненадолго ставших также бледно-металлическим звяканьем, и в глубине балконной арки заживо цепенеет неореалистичный крепостной купол в абсурдных щелях, в песочных экземах, в серо-серых оттенках усталого щебня, готовно горький, и под ним в рапиде никнет заранее выжженный росток с опущенным взором) телесная и поведенческая пластика нашего рода состоит в том, чтобы средь бела дня часами удерживать мягкую мизерную подвижность и наблюдать; нет, разумеется, никто шретера не спрашивал о таких вещах, запрещено по молчаливому сговору между мной и кимсаном, а старику и его странному другу и в голову не пришло бы задуматься о том, что подобная инертность требует внутреннего благородства. Девятикомнатный дом бирюзового цвета, раздираемый по воскресеньям в шестидесятые годы голосами гостей: вездесущая опека хаотичного юга (оттуда берет начало для вас невмешательская вовлеченность в увиденное, в смену забот и т. д., настойчивый шанс, не опасаясь пересудов, быть миром, а не созерцать его или пользоваться им по привычке (на самом деле из послушания уютному механизму повторяющихся конфликтов и согласий, из страха неожиданно оказаться перед лицом непрогнозируемых обстоятельств, но непременно найдется завистливый закон, разлитый повсюду, который вычеркнет вашу скрытую стойкость как инфантильный дурман, как отсталую малость) ради чередования разумных целей) овевала каждого из вас, поскольку вы смутно догадывались, что творцом происходящего в такие моменты мнится сама местность, вобравшая в свою материнскую слежку и твое (наше) родовое гнездо до безмебельных углублений его крайних комнат. Я вижу, как молодые друзья моего отца (один из них кладет на запальный шнур сорняковых трав, сгущающих снизу захолустный обзор, свои записки почему-то о гомеровской илиаде, пот, вонь, кровь, и никакой опрятной античности, кроме бесхребетной и полой пальмы, что смахивает на гиматий, прополосканный в стылой моче эллинского осла), неизлечимо спокойные, несличимые ни с кем в Тунисе, тут, в Никозии, в Червиньяно-дель-Фриули, в нательных, в сочно-белых рубашках, пекущихся о форме их плеч, играют в карты в саду, обжигаемые июльской синью двадцатисемилетней давности, словно то, что грядет, сытые длинноты будущей свободы, можно лишь встретить в прошлом, в жаркие выходные шестидесятых годов, снятые угольно-едким фотоаппаратом на открытом воздухе с единой экспозицией. В придачу в ту пору с 9 до 11 обычно в субботу в часы занятий в пригородных школах, когда окрестность пуста и тем самым становится как раз вполне выносимой и сносной окрестностью, одна и та же вдова в крепдешиновом платье с полуулыбчивой херувимской слепотой, отталкивающе хрупкое воплощение фригидного мессианства, сновала мимо вашего дома по нижней улице вверх к подошве галечных глыб, за которыми сохла степь (где на переднем плане, если я не обманываюсь, сразу гаснет безогненный костер из кирпичных реликвий, стоит наблюдателю бросить взгляд на него) и обратно с пестрым узелком на голове, настолько смуглая, что мы не знали ее имени, – затем на протяжении семидесятых (да и сейчас) события развивались на волоске от фола, и кирпичи в лиловых лишаях липли к жаре, как librorum prohibitorum, обреченный на кремацию. Хорошо, пусть так. Несколько незнакомых людей в конце улицы в шатающемся мареве меняются силуэтами, лишенными чресл, размаянными всеобщей неясностью в любой сезон, и углам домов снятся углы домов. Когда "оно" кончится, говорит он, более улыбчивый, чем вошло у него в обиход, полуголый в мышиного цвета вельветовых брюках, серьезно улыбается, прислонившись спиной к шкафной двери и заслонив левой ладонью пупок, но доведись нам спросить, что "оно", – промолчит, отпрыск богатых родителей, крепкая пыльца, родившаяся до голосов, до музыки в безнотном тутти предвечного равнодушия, вряд ли "оно" иссякнет, уточняет шретер, косноязычие спокойного наития, зримый, ничей, срединный гул, и кивает на деревенское масло в глиняной чашке на столе, на радиоприемник в стенной нише, на золотистые хлопья в слюдяной колбе на оконном барьере. Пора ничего не делать, никуда не идти, оставаться здесь. По крайней мере лицемерие теперь излишне. Правда, иной раз твои миндалины под утро комкает прогорклая, пещеристая паника, и сразу рассветные клешни испаряются раньше, чем убирают с молока устой. Все-таки в нас покоится что-то общее, ты, я и ты, мы обожаем шестидесятые годы и умершие звуки ранних семидесятых, паровозный гудок, лязг упавшей на цемент подзорной трубы, тогдашнее дрожание тогдашней листвы, буро-бронзовое воркование люминесцентной горлицы, севшей на лестничный ствол, – песнь спокойствия начинается с рыданья, и горние лучи, преодолев заоблачный гандикап, ложатся наподобие солнечной гидры на затравевшие подмостки перед верандой. Ладно. Май шестьдесят седьмого (кимсан), нет, август шестьдесят девятого (шретер) – в откорректированной вкрадчивым спором памятной перспективе ненаказуемых выходных молодые гости молодого отца сидят на веранде или на топчане – лица городских лидеров-неофитов пока не порчены наркозом норм и спесью – и беседуют, движением губ, обращенным к бесстрашно патриархальному течению вполне предсказуемых слов с налетом ненужности, развеивают уже обступившие их горизонты удручающе сложной цивилизации, иногда (ты принимаешь все через бесстрастность, а не черно-белый классицизм, камера Фигероа и т. д., как если бы мы втроем воротились домой и столкнулись в переднем помещении, как в одном фильме Рехвиашвили, с чужими людьми, говорящими на кхмерском, на тарабарском языке) встают, открывают дверь двора, после чего возвращаются к веранде или к топчану, будто прилившим двойной складкой высохшего моря между ними, и включаются в размеренный вопрос-ответ мужских жестикуляций – элегический вклад в считанные взаимодействия внутри некой дающей сферы. То есть каждый эпизод такого типа развивался (развивается) совершенно обычно и без дурацкой мистики, требующей унификации уклончивых устоев. Сад, зенон, лавр, монголоидный божок, скатерть, пианино, пиала действуют на нервы, и женщина по-прежнему с узелком на голове недвижней именно в конце улицы, на сей раз справа от окон парадной комнаты, выходящих на дорогу, – она мешкает против пшеничного поля тряпичной телкой, втягивая в свои легкие четыре глотка, пожалуй, вкусных, миниатюрных расстояний поодаль, и потом ее выдох мелкой бессорной дельтой крошится на колосящемся табльдоте плодного, шахматного провала, не просвечиваемого ни единым небом до истечения любого лета. В довершение всего одинокий сутулый фраер в алом шейном платке, как у ломбардских партизан, спешит мимо нее к речному мосту, перечеркнув белесый фокус среднего плана на кромке квартала, что отсечен, как защитной мембраной, от базарного центра бетонным каналом, за которым грезятся акведуки, мраморный резервуар и пурпурная повозка на светоносном асфальте: помпейская стена, или крылья старого орла, или море, мелькнувшее кое-как два раза между мешающими разглядеть водную лазурь тупыми колоннами, – ждать прирученного начала, и никаких сведений ни о чем, но справа опять (по-прежнему) темнеют розы, чей аромат намекает на древнюю жизнь, прошедшую на берегах Маргелан-сая, городской реки, куда ты ходишь по воскресеньям, чтобы "вдохновиться", и вы снова переноситесь в загородный дом, затопленный солнцем. Наконец подул ветер, и, пока в садовых недрах носились воздушные порывы, хаос трепещущих листьев казался мнимым колыханием и ложным нарушением какой-то блаженной, чуть ли не щегольской статуарности и высших пропорций, скрытых от понимания и глаз. Но жара усиливается в полный рост, словно ветерок теперь дует назад мимо известкового фасада в полированных подтеках и в зыбких фиолетовых начертаниях, типа иеросхимонах Пафнутий руку приложил, – сплошная надежда на суд милости, чья мера не имет меры, безродный, дует дальше, обратно, к пугливому престолу запущенного юга, юлящее ярмо провинциальных миражей. Спустя секунду они спускаются во двор, вдвоем, хозяин и наш сообитатель, продолжая замедленными кивками нудную ссору, и замирают на земляной террасе без привычного резного торса под ногами, диморфное существо, сбитое с толку предобеденной скукой. Младший брат остается на месте, в коридоре, и за его спиной в комнатном свете между распахнутым окном и распахнутой дверью девушка обняла сидящего в кресле старика за плечи, как его друг, как парень, – благочестивая иллюстрация к бесполезной сиюминутности, идеальная, безбуйная сцена для Картье-Брессона или Одзу, и рядом, тоже сзади них, сосед слегка подается вперед, с упрямой опасливостью прислушивается к возмутительному безголосью двух мужчин, робкий, глухой, как тетерев, как если бы он кротко внимал бесценной немоте Того, Кто и сам кроток. Что они видят, заглядывая с высоты одноэтажного дома вниз, во двор, где двое друзей беседуют ни о чем, словно их нигде не найти, словно их тела в парчовых бликах вычтены изнутри бесповоротной слышимостью покамест предстоящих общений, словно они согласились всего лишь выстоять некое уместное как раз тут слепое стояние, не озираясь по сторонам, озаренные усталостью в назревающем прямо сверху майском пекле (кажется, какой-то скромный, приземистый ангел, на минуту очутившийся среди моментально померкших рядом с ним лавровых выгородок, принимает их влажной и вялой растяжкой своих моргальных перепонок в той мере обезличенными и пассивными, в какой они реальны, что нимало его не затрудняет, хотя возникало ощущение, что одноэтажная дуга соседнего дома за поперечной дворовой стеной, занявшая наклонный клок на трехметровом гребне дорожного спуска, раскрепощает и вместе с тем приглушает упадническую линеарность мужской речи, усиливая непонятно как идиллический пассион и нервную истому перезрелой весны)? – взмахи закатанных до локтя рукавов рубашек или непрошеные кивки, отбрасывающие бессолнечные вспышки и промельки на виноградную лозу, на серебрящиеся в безводном арыке ломти лопат и подвой, на пуантилистскую тень тучного фруктового дерева, на ее трухлявое угасание, сжигающее пламя дня; что они чувствуют, не трогаясь с места в коридорном проеме и в спальне? – эластичную анонимность трезвой, нулевой местности кругом, свет бесстрастности, насыщенной страстью, нетронутую нейтральность без свойств. Младший сын сделал семь-шесть шагов навстречу двум родственникам, ожидающим во дворе обеденного сигнала, – чем ты ближе к верхней кирпичной ступеньке под верандой, тем шире обуза петляющего множества повсюду, не теряющего каждый раз по-новому свой минимум, – и слышит корявые, басистые голоса, толкующие без всякой причины в такой кишлачно-ясный день о каллиграфистах в итальянском кино 43-го года под виноградной шпалерой. Старик в кресле поворачивает голову, не зная ничего наперед, несмотря на комфортную одноликость собственных поступков и решений в последние годы, и смотрит на старика за своей спиной, принявшего прежнюю позу, прямого в рутинном безветрии: исконный, робкий пароксизм. Дальняя входная дверь на самом деле закрыта на два трубчатых поворота шелковистого ключа, который валяется на полированной спинке пристенной тахты, пока по нему скатываются муравьи, но племянница взяла его, поднесла к губам и свистнула, сзывая нас к обеду. После чего девушка идет в коридор (всем видом нам навязывая свое сходство со служанкой на пестрящей зрелыми женщинами неоромантической картине Сильвестро Леги "Полдень", чей воздух настолько прозрачен, что в нем ощутим вес женских век, и достаточно легкого осмысленного огляда твоей племянницы назад, на спальню, как шуршащее кружевными платьями псевдоаристократическое зрелище итальянского селения второй половины девятнадцатого века улетучится, и желтый захватанный альбом, посвященный маккьяйоли, можно закрыть), чтобы пройти в столовую, и на ходу замечает в зальном окне одинокую вдову в крепдешиновом платье в конце улицы, такую смуглую, что тотчас около нее проплывают таджикские богомолки в маслянистых платках в сторону колониального моста, где сутулый тип блатного вида в алом шейном платке швыряет в реку красного джокера, блеснувшего дважды на лету сквозь порхание путаных микробов. Человек на мосту закуривает сигарету, не глядя на пыльный вихрь над водным течением. Прежде чем схлестнуться с волной, джокер на пять-восемь мгновений застывает в алмазном стоп-кадре на речном покрове, настолько неподвижный, будто лежит не в бурном потоке реки, а на ее дне, над которым планирует не то смерч, не то сигаретный дым, распыляясь прочь на пресном ветру за городской чертой. |
Qazi al-quzzat (вост.) – верховный судья. |
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
"Воздух: Малая проза" | Шамшад Абдуллаев |
| Copyright © 2011 Шамшад Абдуллаев Публикация в Интернете © 2015 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |