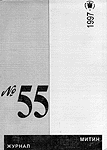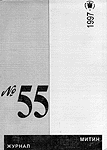Настоящий текст представляет собой сокращенный вариант статьи, полностью публикуемой в посвященном ОБЭРИУ и ленинградской литературе 1920-х годов сборнике, выходящем в 1997 году в серии Stanford Slavic Studies издательства Berkeley Slavic Specialties.
Первые упоминания о замысле рассказа появляются в Дневнике Кузмина 12 августа 1925 года: "Придумал рассказ, но не знаю, напишу ли его" [Дневник Кузмина (РГАЛИ, ф. 232) цитируется по тексту, любезно предоставленному С.В.Шумихиным]. Следующая запись устанавливает дату завершения работы: "13 <ноября 1925 года>. Дописал рассказ. По-моему, неприятненький. Юр. <Юркун> прослезился, а Л<ев> Льв<ович Раков> не понял 'установки' и вообще, был скандализирован". Записи ближайших двух дней подтверждают первоначальную авторскую оценку "Пяти разговоров и одного случая" и свидетельствуют о реакции первых слушателей из круга Кузмина: "14 <ноября>. Юр. рекламирует мой рассказ, но в нем есть что-то неприятное, по-моему. А так ничего"; "15 <ноября>. Читал и я. Неприятный этот рассказ прослушали как тонкую, 'душистую' вещь".
Неизменно продуктивное при анализе текстов Кузмина обращение к его дневниковым записям позволяет реконструировать ближайшие бытовой, культурный и психологический контексты рассказа, его "внелитературную" основу в ее связи с процессом генерации текста и, в частности, предлагает ключ к интерпретации семантики 'неприятного', отчетливо педалируемой Кузминым в характеристиках "Пяти разговоров...".
Видимо, ключевое в этом смысле значение имеет запись от 4 июня 1925 года, синхронно вводящая две центральные темы будущего текста: "Под дождем ходил в "Россию". Горбунья книжку дала свою, но Лежнев еще не приехал. Какое лакейство и интеллигентщщина. И какое гнусное впечатление производит и моя статья в таком соседстве. И как серьезно разбирают этот экскремент, называемый коммунизмом. <...> Переехали к нам жидовка с жиденком. Мальчишка вертится на кухне, моется в корыте, учится на барабане и поет "Интернационал"".
Во фрагменте записи, относящемся к посещению Кузминым "горбуньи" (по-видимому, сестры И.Г.Лежнева Е.Г.Альтшулер) и получению им авторского экземпляра редактировавшегося Лежневым журнала "Россия" со статьей "Стружки" (1925. #5. С.164-169), написанной в августе 1924 года1, существенны фиксация впечатлений от идеологической платформы журнала2 и, прежде всего, копрологический характер данного коммунизму определения.
Коннотативная связь коммунистической идеологии и практических последствий ее воплощения в жизнь с фекальной тематикой постоянная у Кузмина [ср. дневниковую запись 24 марта 1920 года: "Где Пасха, пост, весна, кладбище? <...> Печально думал о тепле, не то о пчельнике, не то яблочном саду. Неужели и там большевики все засрали?"; ср. также: Разве и вправду / Навоз мы, / Как говорит навозная куча / <...> Нас завалившая? ("Ангел благовествующий", 1919); Лежим, как жалостный помет <...> ("Мне не горьки нужда и плен...", 1921) и др.]. В тексте "Пяти разговоров..." эта связь мотивирована эпизодом с разогреванием ночного горшка Клавдия Кузьмича, ассоциативно соотнесенным в сознании Полухлебова (ср., конечно, и его голову, необыкновенно похожую на ночную посуду без ручки, своеобразным субститутом которой, в свою очередь, является разбитая и нелепо склеенная Фомой чашка - отсюда ясна метонимическая связь между ее плачевным состоянием и состоянием сознания Полухлебова в финальной сцене) с административным подогреванием новых устоев.
Экспрессионистское уподобление "эволюции духовной пищи <...> <эволюции> пищи телесной"3 реализуется в текстах Кузмина через систему константных физиологических метафор при описании определенных идеологических и культурных процессов. Эта система, функционирующая как своеобразный идиостилистический код, и "важнейшая для Кузмина тема слияния телесного и духовного в эротическом опыте"4 конституируют поэтику "4-го разговора об идеях", идейно и стилистически соотносящегося с положениями упомянутой статьи Кузмина "Стружки". "Идеологический" фрагмент рассказа играет здесь роль дешифрующего (авто)пост-текста: сопоставление журнального текста и не стесненной цензурными условиями прозы "Пяти разговоров..." демонстрирует подлинный смысл иносказательных аналогий Кузмина между развитием христианства и социализма, где денотатом "первобытного христианства" выступает раннесоветская Россия 1920-х годов5.
Так, тезис об обреченном бесплодии социализма, невозможный в легальной печати, корреспондирует с утверждением из "Стружек": "Как учение, как среда - христианство не могло породить искусства". "Эмоциональное" принятие христианства и остатков языческой культуры северными народами ("новое зрение"), по Кузмину, "придало тому и другому настоящую свежесть и семя" - ср. в рассказе о единственной возможности оплодотворить эмоцией бесплодные идеи. Фиксирование переходного состояния и наивные попытки его рациональных объяснений Полухлебовым повторяют характеристику противопоставленного экспрессионизму современного искусства в "Стружках": "Сознательное одичание. Стремление к бессилию и бесчувствию. <...> Рациональнейший тупик. Статика". В "Стружках" Кузмин описывает это состояние как "столбняк" и постулирует противоположность его жизни, эмоциям и органике человека - высшим ценностям в его аксиологии [ср.: Движение и творчество - жизнь, / Она же Любовь зовется ("Лесенка", 1922)]. Физиологическая метафора в итоговой резкой формулировке Кузмина (Судьба быть изблеванным жизнью и природой), напрямую связанная с отмеченной выше "анальной фиксацией"6 в его текстах, имплицирует актуальный политический подтекст [ср., прежде всего, стих-е "Иона" ("Я не мажусь снадобьем колдуний...", 1922), тематизирующее агрессию Левиафана (=государства), принуждающего "садовника-певца" (=поэта) к своего рода инобытию: Выше! Выше! Умер? Нет?.. / Что за теплый, тихий свет? / Прямо к солнцу выблеван я морем; ср. дневниковые записи: "Впечатление все такое же мерзкое: холерные могилы, дороговизна, лень, мобилизации и это подлое убийство <царской семьи> - все соединяется в такой букет, что только зажимай нос. <...> Наш пример всем будет вроде рвотного" (20 июля 1918 года); "Весь мир через пьяную блевотину - вот мироустройство коммунизма" (28 января 1924); ср. еще: Когда весь мир рвотою томим, <...> Тогда может присниться такое правленье ("Ангел благовествующий", 1919) и, наконец, позднейшую дневниковую запись, сделанную после обыска и конфискации органами ОГПУ Дневника 14 сентября 1931 года: Во рту тошнота, как после мышьяку].
Этот комплекс контекстуальных психофизиологических ассоциаций (о его сенсорном характере сигнализирует, между прочим, ироническое употребление прилагательного "душистый" в дневниковой записи от 15 ноября 1925 года) и составлял, вероятно, для Кузмина "неприятный" субстрат рассказа.
Генезис "детской" темы, пародийно и со свойственной Кузмину "пряностью"7 преломленной в рассказе, также оказывается локализованным в пространстве цитировавшейся дневниковой записи от 4 июня 1925 года, упоминающей о невстрече Кузмина с Лежневым и получении им новой журнальной книжки. Примечательно здесь то, что в дни пребывания москвича Лежнева в Петербурге/Ленинграде Кузмин, следуя его приглашениям, неизменно встречался с ним на Песках, в доме Е.Г.Альтшулер, адрес которой сам Лежнев обозначал следующим образом: "7-ая Рождественская 30, кв.3, 18-й Детский очаг по системе Монтессори"8.
Мария Монтессори (1870-1952) - известный итальянский педагог; занималась изучением вопросов психопатологии и детской дефективности; автор популярных в начале века трудов по "научной педагогике"9, методы которой широко применялись в работе учреждений для детей (в том числе дефективных). С одним из таких учреждений и знакомился Кузмин, бывая на 7-ой Рождественской улице. В рассказе бывшим воспитанником подобного рода дефективного дома является талантливый ребенок Фома Хованько.
Связанная с Фомой сюжетная линия может быть названа, согласно принятой в 1920-е терминологии, "педологической"10. Разработанные Монтессори методы воспитания "трудных" детей и педологические идеи о том, что "как бы ни были печальны последствия <их п(р)оступков>, они излечиваются здоровым режимом, правильным воспитанием и внушением"11, служат в "случае" с Фомой стимулом и основой Сониной заинтересованности этим мальчиком и тем, что из него можно будет сделать личной инициативой и работой. Характеристика Фомы как очень одаренной натуры с ложно направленным <половым> инстинктом соответствует широко растиражированным взглядам на детскую сексуальность теоретиков педологии, адаптировавших положения психоанализа - ср., например, утверждения одного из самых популярных, А.Б.Залкинда: "Чаще всего дети с избыточной сексуальностью представляют собою лишь оборотную сторону медали, на лицевой стороне которой имеется богатейшее, но плохо направленное творческое содержание"; "Наши дети - пионеры12 - вот первые, которые сумеют довести дело полового оздоровления до действительно серьезных результатов <...> <Для того, чтобы> правильно наладить педагогический процесс <...> и <...> направить ребенка по нужному пути <...> - необходимо <...> перевести энергию, плененную половым, на другие, на творческие рельсы"13.
Данное Фомой на этих рельсах доказательство русского гения и изобретательности - нелепо склеенную чашку с барабанщиком, сидящим на своем инструменте, - любопытно соотнести с впечатлениями от вынужденного коммунального соседства с мальчиком (пионером?), поющим "Интернационал" и упражняющимся за стеной в игре на барабане, зафиксированными Кузминым в той же дневниковой записи от 4 июня 1925 года (знаменателен нетривиальный и, кажется, понятный в свете учения Фрейда о кастрационном комплексе отказ от антисемитской трактовки темы).
Дневник предлагает и убедительную психологическую мотивировку появления в "загадочном узоре" (Б.М.Эйхенбаум) кузминского рассказа третьей, "скрытой" и наиболее интригующей сюжетной линии, герои которой - Павел Коньков и его товарищ, бегущие за границу14 - в существенных, идентификационных характеристиках (писательство и гомосексуальность) совпадают с автором.
25 июня 1925 года в поездку в Париж отправилась А.Д.Радлова; ее отъезд вызвал следующую дневниковую запись: "Уехать бы <...> О, как бы я пошел везде за границей". Мысли о резком и внезапном повороте всей жизни, связанном с перемещением в пространстве, конкретизированы в поразительной записи от 20 июля: " <...> я уже подумывал, куда сбежать с Юр. теперь, без паспортов, можно. Хотя бы в Украину. Перепись нот, перевод, аккомпаниаторство - вот. Немного староват для такой жизни, но это затруднение скорее биографическое, чем реальное. Получение случайных известий об эмигрировавших друзьях стимулирует действия и планы Кузмина: "Вчера новости о <К.>Ляндау. Отыскивать, отыскивать, писать. Европа, Европа!" (31 июля 1925). Этому эмоциональному подъему и деловой конкретике кладет конец возвращение Радловой: "Что-то неприятное все-таки вкралось от ее рассказов о знакомых: о подлости Адамовича, славе Ходасевича, коварстве Ремизова, официальности Блохов, общего равнодушия" (10 октября 1925). Предметность и локальность замыслов вновь сменяются регулярным выражением неудовлетворенности бытовыми обстоятельствами: "На меня напала сладкая и невыразимая грусть по веселой, открытой жизни, по большой благоустроенной, без долгов, квартире, по существованию без анкет, регистраций и налогов" (28 октября 1925).
Необходимо напомнить здесь и об еще одной заграничной поездке лета 1925 года, о которой Кузмин наверняка знал (от того же И.Г.Лежнева15): в июле-августе Россию посетил Н.В.Устрялов, эмигрант и идеолог национал-большевизма, описавший по возвращении в Харбин свои впечатления в очерке "Россия - у окна вагона", послужившем одним из поводов к окончательному закрытию лежневского журнала16. Визит Устрялова (как и нашумевшие российские вояжи его соавторов по сборнику "Смена вех", а также сотрудников берлинской газеты "Накануне"17) может служить реальным прецедентом описанного Кузминым "случая", фабульная функция которого - мотивировка остраненного восприятия героем рассказа пореволюционного "быта" - была ранее описана О.Мандельштамом на страницах той же "России": "Быт - это иностранщина <...> его не существует для своего домашнего, хозяйского глаза <...> другое дело турист, иностранец <...> он пялит глаза на все и некстати обо всем рассказывает"18.
В этой поэтике абсурда и "черного юмора" видели в свое время черту, сближающую прозу Кузмина с текстами обэриутов19. Однако за чередой нелепых и комичных положений, наблюдаемых Полухлебовым, видится и глубинная тема кузминского текста, универсальная для его позднего творчества и, в целом, конституирующая его индивидуальный поэтический миф. Это, несомненно, "поиски человек<ом> организующего элемента в жизни, при котором все явления жизни и поступки нашли бы соответственное им место и перспективу", как формулировал чуть позднее Кузмин, объясняя (в связи с планами сценической постановки) замысел написанных в марте 1924 года "Прогулок Гуля"20. В отличие от "постигшего организующий путь"21 Гуля в данном случае необходимый "организующий элемент" ненаходим и, таким образом, инвариантной становится ситуация рокового несоответствия - номинативного (имени денотату: ср. топоним улица Смычки, "заумные" советские новые слова - аббревиатуры Совхоз, Домуправ и т.п. 22), физиогномического (ср. описание лица Фомы) и/или биографического (Вы все занимаетесь не своим делом).
Последний мотив имел для Кузмина очевидные коннотации автобиографического свойства: неудовлетворенность собственным статусом в реальном культурном пространстве 1920-х годов, острый кризис ролевой самоидентификации, свидетельством которого является и соблазн "неконвенционального" преодоления "биографических затруднений" (см. выше), разрушения довлеющего биографического текста23, приводят к интериоризации игры несоответствий ("Ко мне скорее, Теодор и Конрад...", 1924) и поисков идентичности [Где соответствие? Какая связь <...>? "Воздушную и водяную гладь...", 1925)] в поэтический мир Кузмина (ср. "Мечты пристыжают действительность", 1926) с его полными экзистенциального неблагополучия координатами: искаженной перспективой, кинематографической оптикой24 и спутанным хронотопом [И что вдали, / И что вблизи / Никто тут не поймет ("Злой мечтательный покойник...", 192425); Покойники смешалися с живыми ("Форель разбивает лед", 1927)]. Эта же императивно заданная обстоятельствами времени и места проблематика становится доминирующим предметом болезненной дневниковой авторефлексии ["Нужно точку зрения. Иначе ничего не выйдет. <...> Иллюзию дела, и притом 'красивого' <...> Мне скоро 60 лет. Где и кто стоющий (хотя бы и не очень) так жил? Установив аналогию, освященную поэзией, легче переносить что бы то ни было. Трудно быть <нрзб> в какой-нибудь гнусной дряни" (30 сентября 193126)]. Личностный генезис кульминирующей в заключительном монологе Полухлебова темы замененной точки зрения и невозможности найти умопостигаемые основания окружающего советского мира (Или вы все с ума сошли, или я сумасшедший) проясняют параллели в дневниковых записях Кузмина: "Иногда вдруг взглянешь трезво - и видишь сумасшедший дом и смерть. Живешь чистейшей фикцией. <...> Я, наверное, болен; мы все больны" (27 июля 1925).
"Смелость простодушия"27 и традиционная для "бытовой" прозы Кузмина определенность идеологической задачи28 (или "установки", как писал, пользуясь терминологическим арсеналом формалистов, Кузмин), делающие рассаз уникальным по откровенности высказыванием Кузмина-прозаика о пореволюционной действительности, определили и печатную судьбу этого текста.
В 1927 году Кузмин предполагал включить "Пять разговоров и один случай" в состав сборника рассказов, о возможности издания которого он писал владельцу берлинского издательства "Петрополис" Я.Н.Блоху29. Этот проект, однако, не осуществился, и рассказ пополнил ряд oeuvres posthumes, как с горькой иронией именовал такие вещи сам Кузмин30. Текст "Пяти разговоров..." был впервые опубликован Ж.Шероном в 1984 году31. Первопубликация сопровождалась ссылкой на автограф, находившийся в "частном архиве в Ленинграде". Однако в архиве О.Н.Гильдебрандт-Арбениной (1897-1980), с материалами которого работал публикатор и который, несомненно, и имеется в виду, сохранялись лишь неавторизованные машинописные копии как рассказа Кузмина, так и некоторых других его произведений, автографы которых, очевидно, были конфискованы органами НКВД 8 октября 1938 года в составе архива Кузмина и Ю.И.Юркуна после ареста и расстрела последнего. Судьба этих изъятых материалов до сих пор окончательно не прояснена: в следственном деле Юркуна 1938 года [архив ФСБ РФ (быв. КГБ СССР) в С.-Петербурге, дело П-31221, т.1] содержится упоминание о конфискованных при его аресте, 4 февраля 1938 года, "двух коробках негативов фотографических", "рукописях и всевозможной переписке" (л.4), а также об опечатанных "комнате" и "чулане с литературой" (л.4об). Никаких данных, позволяющих определенно судить о дальнейшей судьбе этих материалов, в деле, к сожалению, нет32. По некоторым свидетельствам33, машинописные копии текстов Кузмина были изготовлены после его смерти, в период 1936-1938 гг., вероятно, Е.Н.Шадриной (1887-1970), матерью Алексея Шадрина, переводчика и поэта, входившего в дружеский круг Кузмина последних лет его жизни. Так, в архиве О.Н.Гильдебрандт сохранялись копии Дневника Кузмина 1934 года, пьесы "Смерть Нерона" и "Пяти разговоров и одного случая".
Текст рассказа публикуется по машинописной копии (местами дефектной) из архива О.Н.Гильдебрандт, ныне хранящейся в собрании Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, с исправлением многочисленных ошибок и неточностей первой публикации.
Примечания
1 См.: П.В.Дмитриев, А.Г.Тимофеев. Библиография критической прозы М.А.Кузмина // De Visu. 1994. #5/6. С.108.
2 Подробнее см.: М.Агурский. Идеология национал большевизма. Paris, <1980>, passim; Неоконченное сочинение Михаила Булгакова / Публ. и статья М.Чудаковой // Новый мир. 1987. #8. С.180-184.
3 М.Кузмин, Анна Радлова, Сергей Радлов, Юр.Юркун. Декларация эмоционализма // Абраксас. Пг., 1923. Февраль. <Вып. 3>. С.3.
4 М.Г.Ратгауз. Кузмин - кинозритель // Киноведческие записки. 1992 #13. С.56.
5 Этот же прием ранее эксплуатировал на страницах "России" Н.В.Устрялов в известной статье "Обмирщение", ряд утверждений которой не мог не быть сочувственно отмечен Кузминым: "<...> первоначальная чистота <...> христианского идеала, покорив мир, <...> постепенно и органически перерождалась под влиянием конкретных и неистребимых требований земной действительности. Формально торжествуя, она мало по малу впитывала в себя элементы и качества, внутренне чуждые ее отвлеченному существу. <...> На наших глазах происходит решительное и неудержимое обмирщение <...> коммунистической церкви" (Россия. 1923. #9. С.14,15; курсив мой) - ср. у Кузмина о современном противоречии между "высокими парениями и неискоренимой простой домашней жизнью" (Колебания жизненных токов // Юрий Анненков. Портреты. Пб., 1922. С.51), о "частной конкретной любви" (Декларация эмоционализма) и, наконец, об "отвлеченности" "первобытного христианства" в "Стружках", с программным выводом: "Только сложив свое оружие, ученически по складам начав снова воспринимать разрушенную культуру, постепенно оформляясь, христианство обратилось в явление созидательное и плодоносное, опустошив вокруг себя почву, само став на место язычества, но восприняв большинство его же свойств. Но это - процесс одного и того же организма" [статья Кузмина здесь и далее цитируется по отдельному журнальному оттиску с правкой автора (ОР РНБ. Ф.625. Оп.1. Ед.хр.721)]. Последняя "ограничительная" констатация, также как и открыто провозглашенная Кузминым в "Стружках" несовместимость "экспрессионизма" (resp. собственного творчества) и "коммунизма" (знаменательно, что именно этот фрагмент статьи Кузмина был акцентирован в ее изложении эмигрантской печатью: К.В. <К.Мочульский> Кузмин об искусстве // Звено. 1926. 3 января. #153. С.6), демонстрируют, однако, существенные отличия между определенно пессимистическим взглядом Кузмина на российскую политико-культурную действительность и будущность и, с другой стороны, схемами Устрялова и "попутнической" редакционной стратегией Лежнева. Болезненное для Кузмина противоречие между его бескомпромиссной по отношению к "новым устоям" позицией [подтверждаемой, в частности, и немедленной дневниковой реакцией на спровоцированный "Стружками" резкий отклик в советской печати (см.: В.Перцов. По литературным водоразделам // Жизнь искусства. 1925. 27 октября. С.4-6): "Ругают меня в "Ж<изни> ис<кусства>" <...> Конечно, я не пролетарский писатель, и надежд на меня никаких. Если современность - коммунизм, я не современен" (27 октября 1925)] и невольно "лакейскими" обертонами излюбленного Лежневым "эзопова языка" аналогий [ср. письмо Лежнева к Кузмину от 8 марта 1925 года, где в ряду достоинств "Стружек" особо отмечено, что этот материал "внешних трудностей к напечатанию не представляет" (РГАЛИ. Ф.232. Оп.1. Ед.хр.265. Л.5)] и определило отразившееся в цитировавшейся выше дневниковой записи от 4 июня 1925 года негативное впечатление Кузмина от журнала Лежнева в целом. Оно же, вероятно, сыграло свою роль в создании лишенных всякой "иносказательности" формулировок рассказа.
6 Об "анальности" в русском авангарде (минуя, к сожалению, Кузмина) и о связанной с ней метафорике "овнешнивания внутреннего" см.: Игорь П. Смирнов. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С.207-211.
7 По слову А.Блока из его рецензии 1918 года на одну из пьес Кузмина для детского театра (см.: Александр Блок. Собр. соч. в 8-ми тт. Т.6. М.;Л., 1962. С.315; ср. там же о "пропитанных патологией" "детях нашего времени"). Уголовная и перверсивно-эротическая мотивика сопровождает появление детей у Кузмина и в колоритном "Страшном случае" из "Печки в бане" (март 1926); судя по дневниковой записи Кузмина от 14 июля 1926 года ["Прилег и сразу сон и толкование по Фрейду. Конечно, он грязный жид и спекулянт, но касается интересных вещей <...> На Фонтанке купаются мальчишки. Зады у них развиваются раньше другого. В детск<их> сновид<ениях> они равноценны полов<ым> органам" (цит. по: Н.А.Богомолов. Вокруг "Форели" // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15-17 мая 1990 г. / Сост. и ред. Г.А.Морева. Л., 1990. С.208.)] этот специфический ракурс взгляда и соответствующая ему поэтика "ужасного натурализма" (Дневник, 18 сентября 1927 года: там же. С.210) были, во многом, заданы несомненным впечатлением от чтения текстов Фрейда.
8 Письмо Лежнева Кузмину от 14 января 1923 года (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).
9 См., например, в русском переводе: Руководство к моему методу. М., 1916; Метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в "домах ребенка". 4-е изд. М., 1920; и др.
10 Очерк истории педологии в СССР см. в кн.: Александр Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб., 1993. С. 311-341.
11 Педагогическая энциклопедия / Под ред. А.Г.Калашникова при участии М.С.Эпштейна. Т.1. М., 1927. Стлб.202.
12 Впечатления от встречи с пионерами - сверстниками Фомы - ср. в дневниковой записи Кузмина от 21 июля 1925 года: "По Жуковской шли усталые "пионеры". Впереди девочка лет 14 в штанах, сзади голые мальчишки, в роде Макара. Бритые, сутулые, с длинными руками, бритыми головами и уныло басами пели какие-то детские прибаутки. Какое рабство. Вот косная масса".
13 А.Б.Залкинд. Половой вопрос в условиях советской общественности. Сб. статей. Л., 1026. С.100, 65, 83 (курсив мой). Ср. в его кн.: Очерки культуры революционного времени. Сб. статей. М., 1924. С.49 и след.
14 Очевидно, в столь притягательную для Кузмина Германию: ср. упоминание о настоящем Рейне - марка этого немецкого вина, как заметил Дж.Мальмстад (John E.Malmstad. "You must remember this": Memory's Shorthand in the Late Poem of Kuzmin // Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin / Ed. John E.Malmstad. Wien, 1989. P.138), в поэтической мифологии Кузмина служит одной из сигнатур свободной поэтической жизни.
15 Согласно Дневнику, они виделись 9 июля 1925 года; 3 августа 1925 года в Дневнике упоминается неизвестное нам письмо Лежнева Кузмину.
16 См.: Григорий Файман. Смена вех как точная наука. 1926 год. Высылка Исая Лежнева из России // Независимая газета. 1995. 18 октября. С.5. См. также: М.Агурский. Переписка И.Лежнева и Н.Устрялова // Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol.V-VI. P.553-554, 585-587.
17 См.: Л.Флейшман, Р.Хьюз, О.Раевская-Хьюз. Русский Берлин. 1921-1923. Paris, <1983>. С.37. Любопытно, что одна из "политических" реплик Коньковой в рассказе (о "советизирующихся" эмигрантах) вторит вызвавшей общественный скандал характеристике части петербургских литераторов из опубликованного 4 июня 1922 года в Литературном Приложении к "Накануне" письма Корнея Чуковского Алексею Н. Толстому; ср.: "<...> не думайте, что эмигранты только за границей <...> те, которые живут здесь, еще больше за рубежом, чем Вы".
18 О.Мандельштам. Литературная Москва. Рождение фабулы // Россия. 1922. #3. С.26-27. Ср. признание Устрялова: "У меня было некоторое, - быть может, и сомнительное, - преимущество перспективы, "пафоса дистанции"" (Н.Устрялов. Моя переписка с И.Г.Лежневым // Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol.V-VI. P.552).
19 Ср.: George Cheron. Mixail Kuzmin and Oberiuty: An overview // Wiener Slawistischer Almanach. 1983. Bd 12. S.96; Н.А.Богомолов, Джон Э. Малмстад. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М., 1996. С.272-273.
20 Цит. по: М.Кузмин. Театр. IV / Сост. А.Тимофеев. Под ред. В.Маркова и Ж.Шерона. Berkeley Slavic Specialties, . С.372. Ср.: Н.А.Богомолов, Джон Э. Малмстад. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. С.250.
21 М.Кузмин. Театр. IV. С.373.
22 К этому же ряду асемантических номинаций принадлежит для Кузмина и новое имя пораженной "новоязом" страны - семиотическая, по сути, проблематика [воспринятая Кузминым в русле онтологизирующей ее религиозно-философской традиции и, кроме того, чрезвычайно актуальная в современной ему культурной ситуации (ср. имяславие)], наряду с христианской аксиологией, становится, таким образом, критериальной в недвусмысленной оценке советского государства, предстающего как пустой интенсионалл, объект, лишенный "сущности" [<...> Неудобно слуху. / Ненареченной быть страна не может. / Одними литерами не спастися. / Прожить нельзя без веры и надежды / И без царя, ниспосланного Богом <...> Но этих за людей я не считаю. / Ведь сами от себя они отверглись / И от души бессмертной отказались ("Не губернаторша сидела с офицером...", 1924); о семантизации графического начертания старого и нового имен государства в начале 1920-х годов - наборе подчеркнуто дискретных литер "Р.С.Ф.С.Р." и "противостоящей прерывистости этой аббревиатуры" "слитности буквиц" уникального тогда названия "Россия" на обложке лежневского журнала - см. в указ. публ. М.Чудаковой: Новый мир. 1987. #8. С.180], тогда как лишь в процессе семиозиса ("необходимой номенклатуры" в терминах Кузмина) преодолевается мертвящая автоматичность и постигается "внутренняя организация" мира [Я нашел всему свое место, я нашел ось, центр, слова ("Прогулки Гуля")]. Аналогичные "нарушения" в механизме сигнификации тематизируются и в других текстах Кузмина [ср.: К чему нам просыпаться, если завтра / Увидим те же кочки и дорогу, / Где палка с надписью: "Проспект побед", / Лавчонку и кабак на перекрестке / Да огороженную лужу - "Капитолий" ("Переселенцы"); ср. также "Природа природствующая и природа оприроденная" и "Свет мудрости укрощает страсти" из "Панорамы с выносками", 1926].
23 Ср.: Омри Ронен. Символика Михаила Кузмина в связи с его концепцией книги жизни // Readings in Russian Modernism. To Honor V.E.Markov / Ed. Ronald Vroon, John E. Malmstad. Moscow, 1993. P.291-298.
24 См.: М.Г.Ратгауз. Кузмин-кинозритель. С.61 и след.
25 Цит. по: Часть речи. Альманах литературы и искусства. #1. Нью-Йорк, 1980. С.99. <Публ. Г.Г.Шмакова>. Помещение биографами Кузмина этого стихотворения (равно как и опубликованного Кузминым в 1927 году стихотворения 1924 года "Орфей") в список "необнаруженных" (Н.А.Богомолов, Джон Э. Малмстад. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. С.247) необъяснимо.
26 Цит. по: Новое литературное обозрение. 1994. #7. С.175 (публ. С.В.Шумихина; курсив мой).
27 Автохарактеристика из дневниковой записи Кузмина от 30 сентября 1925 года: "Читал по-немецки "<Нежного> Иосифа" <имеется в виду издание: M.Kuzmin. Der zartliche Josef / Dt. von A.Eliasberg. Munchen, [1920]> - дикая и странная вещь <...> Написал ли бы я теперь так? Безусловно. Смелость простодушия у меня осталась".
28 Ср.: Р.Д.Тименчик, В.Н.Топоров, Т.В.Цивьян. Ахматова и Кузмин // Russian Literature. 1978. VI-3. P.243.
29 См.: К.Харер. "Верчусь как ободранная белка в колесе". Письма Михаила Кузмина к Я.Н.Блоху (1924-1928) // Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига-М., 1992. С.234 (письмо от 9 июля 1927 года).
30 Там же. С.225 (письмо Блоху от 15 октября 1924 года).
31 См.: George Cheron. Неизвестные тексты М.А.Кузмина // Wiener Slawistischer Almanach. 1984. Bd. 14. S. 372-382; этот же текст перепечатан в кн.:М.Кузмин. Проза. IX. Несобранная проза / Ред и прим. В.Маркова и Ф.Шольца. Berkeley, 1990. С.377-394; М.Кузмин. Подземные ручьи. Избранная проза / Сост., послесловие и прим. А.Пурина. СПб., 1994. С.395-404.
32 В последнее время в печати несколько раз высказывалось основанное исключительно на преданном в 1990 году гласности факте знакомства органов НКВД с Дневником Кузмина в 1934-1940 годах предположение о роковой роли политических и интимных дневниковых записей Кузмина в судьбе Ю.И.Юркуна и некоторых других лиц, входивших в окружение Кузмина в советские годы (см., напр.: А.Г.Тимофеев. Семь набросков к портрету М.Кузмина // М.Кузмин. Арена. Избранные стихотворения. СПб., 1994. С.34-35; Михаил Кралин. История одной фотографии // РИСК. М., 1995. #1. С.94). К высказанным мною ранее предположениям об этической и фактической сомнительности этой версии (см.: Глеб Морев. По поводу петербургских изданий М.Кузмина // Новое литературное обозрение. 1995. #11. С.331-332) прибавлю теперь, что в следственном деле Юркуна Дневник не упоминается ни разу, а самое имя Кузмина, несколько раз названное Юркуном, не привлекло в ходе допроса никакого дополнительного внимания со стороны следствия. Также следователями, сосредоточенными исключительно на разработке "террористической" версии обвинения, совершенно был проигнорирован (или остался им неизвестным) факт гомосексуальности Юркуна (подробнее о характере "писательского дела" 1938 года см. в новейшей публикации Э.Шнейдермана: Звезда. 1996. #1. С.82-126). Заслуживает внимания и изложенное Н.Богомоловым (Книжное обозрение. 1996. 23 апреля. #17. С.17) предположение А.Б.Грибанова о связи изъятия Дневника Кузмина с "внутренней" политикой определенной части руководства ГПУ-НКВД "после смерти Менжинского". Замечу, однако, что Дневник был изъят в феврале 1934 года, тогда как Менжинский умер в мае.
33 См., например, дневниковую запись Э.Ф.Голлербаха от 8 декабря 1938 года: М.А.Кузмин в дневниках Э.Ф.Голлербаха / Пред. и пуб. Е.А.Голлербаха // Михаил Кузмин и русская культура XX века. С.230.
"Митин журнал", вып.54:
Следующий материал
|