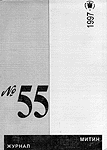
- Митин журнал.
- Вып. 52 (лето 1995).
Редактор Дмитрий Волчек, секретарь Ольга Абрамович.
С.149-161.
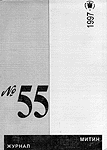
|
Редактор Дмитрий Волчек, секретарь Ольга Абрамович. С.149-161. |
Сэр Виллиам прокашлялся и начал: "От сотворения сей варварский народ изнывал от зноя в пустынях, но вот некоторое время тому переместился в области попрохладнее и, как насекомые, быстро-быстро там размножился. Когда же сообразили, что числом как никто несметны, вознамерились подчинить себе Вселенную. Глумливо утверждают, что безжалостным избиением назначено им почистить грешный, грязный сей мир. Руссию и Польшу разорив, стоят уж на пороге Алеманнии. Они желтоликие, с приплюснутыми носами, и все, как один, страдают косоглазием, туловом толсты и пешие относительно неуклюжи по причине короткости ног. Зато на конях скачут баснословно резво. Чрез реки и озера переправляются на кожаных надувных лодках. Доспехи у них шиты из ослиных шкур, думаю, дубленых, и на груди у всякого пластины из твердых сплавов, а спину не велят им начальники беречь, чтобы и помыслить о бегстве не посмели. Мечами машут с умопомрачительною частотою, луки мощностью не уступают лучшим аглицким, вдобавок, наконечники стрел обмазаны ядом..." "Так они вероломнее сарацынов, что ли? - уныло спросил сэр Эдгар и уныло же поглядел в узкое окошко, за которым сребрились вересковые палестины. - Я слыхал, что изобретены стрелы со смещенными наконечниками, небывало вредоносные при поражении, но применить таковые не решается ни одно христианское государство, опасаясь прослыть нарушителем конвенции международного рыцарства. Быть может, употреблением сих наконечников токмо и возможно противустоять сатанистам? Прости, Виллиам, я перебил". С месяц назад сэра Виллиама, как представителя от пограничного региона, вызвали в Лондон. На закрытом совещании при дворе обрисована была международная обстановка (апокалиптическая), собравшимся были розданы свитки с руководством к действию в случае вторжения. На обратном пути завернул по-соседски к сэру Эдгару поделиться новостями невеселыми. Возобновил повествование: "Женщины тартарские тоже верхами скачут, преискуснейшие лучницы, и не щадят никого, узкими, как щелки, очами не взирая на пол, возраст или титул, и которая жесточе, та и пользуется успехом у мужей племени своего. Сии диаволицы низкорослы, широкобедры и до безобразия безгруды. Питается сей народ сырым мясом даже и собак, с жадностью разрывая руками и запихивая в рот кровоточащие куски. За неимением животных, ежели голодны, употребляют в пищу человечину, правда, вареную. Жажду утолять способны, лакая из луж. Или отворяют вену у коня своего и пьют, припав ртом..." "Что же делать?" - прошептал сэр Эдгар одними устами, а перстами трепетными нацедить нацелился пива из глиняного кувшинчика, чтобы и хлебнуть с тоски, но сэр Виллиам сызнова раскашлялся (кха-кха-кха), ручищами размахался, смахнул кувшинчик со стола, натуральный медведь нортумберлендский. Сокрушив кувшинчик, улыбался сокрушенно. Скакал из Лондона семь зимних дней, в один из оных и простыл на скаку. "Уж досказывай, - угрюмо сказал сэр Эдгар. - Впрочем, тошно слушать". Со скрипом в вертлуге поднялся. Зрелость - не радость. Никогда крепостию телесною не выделялся, отчего и занимался непритязательно сельским хозяйством на доставшихся по наследству землях. Окрестное рыцарство на земли сии не зарилось, зная, что сам сэр Виллиам опекает безмощного соседа. Сам сэр Виллиам был - ого, какой рыцарь. Среднего росту, однако плечист, костист, даже под кольчугою заметно, колико мускулист, превесьма бодрый старец. Спереди власы отпустил до глаз, моде придворной следуя. Ему бы, старикану суетному, пеплом главу присыпать, памятуя о нашествии о тартарском. "Я ведь еще не был дома, - сказал сэр Виллиам. - Матильда, чаю, извелась, ожидаючи. Тряпок бабе везу воз. Поскачу, отчитаюсь, а вечерком загляну сызнова, тогда и потолкуем обстоятельно". "Буду рад, - дрожащим голосом ответствовал, вялыми перебирая ногами, проводил гостя до двери. - Нет, пожалуй, провожу тебя не только до двери, но и до границ поместья моего. Неделю не был на свежем воздухе". В медном зерцале на стене заметил с отвращением уж привычным: гостю по плечо, голова как одуванчик, шерстяной балахон вервием препоясан. По винтовой каменной спустились ниже этажом. Из пиршественного зала слышались клики, бряцание струн. То сын с наперсниками бился кубком о кубок. Там же, верно, и Цецилия. Не сводит с чада очарованных очес. Не в отца сынок, не оспоришь. Единственная утеха в замужестве незавидном. В свои осьмнадцать верховод юношества. С майским призывом сбирается в крестовый поход. Цецилия попустительствует вакханалиям в надежде, что чадо, перебесясь, выкажет на полях сражений усердие и прилежание. Впрочем, и сама живо участвует в пирушках, перемигивается с юными бражниками, то и дело удаляется с иными в закутки под предлогами, ну, например, "Томас, деточка, в коридоре светоч потух, запали, сделай милость, я покажу, где!" или "Майкл, мальчик мой, проводи в кладовую, одной страшно, там мыши!" Когда шествовали мимо пиршественного зала, она и высунулась, растрепанная, краснощекая, с глазами блестящими, свеща в руке сияла символическая. "Сэр Виллиам, уже уезжаете? Что так быстро? Не рассказали о жизни столичной..." - пошатнулась, ноги расставила как...как... ть-пфу! И не ведает, что конец света приблизился. Ну, а коли доведается, что тогда? Все равно не поверит. Ведь женщина. Не обернулся. Цецилия однако не отстала, вышла следом во двор. На морозе нимало не поеживалась в тунике с вырезом. Ухмыляясь, изрыгала в лицо сэру Виллиаму клубы винного пара. Двусмысленную свещу держала в кулачке торчком - безвидным было пламя при свете зимнего полдня. Покуда валеты седлали коней, сэр Виллиам повествовал потешное о жизни столичной, перемежая хохот кашлем, но сэр Эдгар не слушал. Озирал на прощание тесный дворик, стены из глыб, дубовую скамеечку под сению тополя, коему поверял детские всхлипы, отроческие вскрики, юношеские стенания, зрелые думы. Всему, стало быть, конец. Нежданно, ох, как нежданно. Выехали из ворот, и сэр Виллиам заторопился к Матильде младой, каковую сделал хозяйкою замка сразу по смерти жены предыдущей, а сэр Эдгар направился в сторону леса. К морю не хотелось, ветреный выдался день. И раздражало: верещатники уж очень сребрятся, больно глазам. А в лесу полутемно, с изморозью изумрудно, и не холодно, а вот как раз хорошо. Не будучи храбрецом, прогуливаться любил все же в одиночестве. Лес по обочинам был дальновидно вырублен, и сэр Эдгар успевал загодя заметить встречного. Тотчас поворачивал, пришпоривал, отлетал обратно к замку. Стыдился, конечно, трусости своей, но супротивление оказывать не умел. Сызмала отстранялся от мечей, включая деревянные учебные. Сызмала и поминутно попукивал, поминутно кружилась голова. Добавим сюда приступы тошноты, неурочное мочеиспускание. Словом, не боец, не воин. Открытые пространства пугали. Близ моря трепетал, хотя и влекло к волнам, влекло. Из-за скалы, бывало, смотрел украдкою - и скакал прочь. Сердце - билось! Это еще повезло со временем, внутри коего родился и жил. О разбойниках лишь в балладах слыхивал, тихо было тогда в Нортумбрии. И шотландцы границу не нарушали. А может, и нарушали, да никто из рыцарства окрестного за помощию к сэру Эдгару не обращался, знали: проку от него практически ноль. На прогулку выбирался нехотя, а вот обратно гнал коня, всякий раз тревожась: вдруг отсутствовал в замке не час, как мнилось, а лет эдак триста? Такое с людьми случалось: поскачет рыцарь на прогулку, вернется вечером, а в замке уж иные живут и в ином уж времени, сто лет уж, оказывается, минуло, и никто рыцаря сего даже по имени не помнит. Волновался, что в его отсутствие домочадцы подверглись облучению чарами колдуна какого-либо и сделались, например, незримы. Или же, не утратив знакомые облики, стали призрачны! Однажды после прогулки не выдержал, принялся ощупывать Цецилию: не дым ли, не dream ли? Она, решив, что домогается, задрала подол. Разочаровал в очередной раз. Прелесть соития заранее ничтожило сознание ответственности за последствия нег. Не чувствовал в себе силы защитить новорожденное существо. Но отнюдь не вторжения шотландцев страшился, и не высадки морского десанта датчан, нет же! Прозирал настоящую опасность. Осьмнадцать лет назад был смелее - и родился сын. С годами поникло мужество. Зашумело в голове - даже за холку коня ухватился - вспомнился эпизод из отрочества. Таким же зимним днем сидел во дворике под сению тополя на скамеечке дубовой, крепка еще казалась скамеечка, следил за круговращением облаков, вдруг черный лист свалился на колено, как свиток. Развернул свиток сей - черно и пусто! Впервые подумалось: "Мы, люди, мимолетны в сущности и, величаясь наивно размерами и свойствами плоти, в сущности же мнимы!" С тех пор не стихало щемление сердца. Ведь жизнь в погранзоне знаменательна. Нигде, как здесь, не терзает ум толь часто иглоукалывающая догадка: "Обитает род человеческий на границе жизни и смерти!" Тогда, в давнишний тот зимний полдень, влага градом посыпалась из глаз, и штаны увлажнились, горячая струя побежала, змеясь, в сапог. Обмочился он тогда со страху. Испустил заунывный пук. "Жить, - дошло до отрока, - означает пребывать в страхе, что в любой миг возможно жизни лишиться. И не узришь боле ни стен замка наследственного, из глыб якобы неколебимых, ан нет, уже пещеристы, ноздреваты глыбы сии и на глазах прашатся, ни тополя, тоже ведь тленного, отрясающего с ветвей мерзлые листья, ни скамеечки сей мнимо прочной, а на деле обреченной обратиться рано ли, поздно ли в труху, ничего и никого боле не узришь, ни ближнего, ни дальнего!" И побежал к мамочке, мыча бестолковщину, запыхался, топоча по каменной винтовой, с ревом ворвался в спальню. Мамочка лежала под балдахином навзничь. С закрытыми глазами. "Нет! Нет!" - закричал и, слава Богу, разбудил. Улыбнулась, бледная, притянула к боку своему такому теплому. Погладила по голове. Но молчала. Не опровергла его открытие. С того дня предался размышленьям. Но размышлять не означает ли - бояться? "Смелый смеет, а трус - все вхолостую схоласт!" - ответствовал немудрящий сэр Виллиам на попытки поделиться насущными сумнениями и увещевал чаще бывать на воздухе, на людях, навеселе. Вняв совету доброхота, нудил себя изредка прогуливаться. Жмурился с гримасом скорби. В солнечных небесах не было ни тучки. Речка за дни, что не покидал замка, замерзла. По заледенелой ее поверхности крестьянских мальчиков орава скользила, размахивая кривыми палками наперегонки за черным камушком. Как мечтал во младенчестве - на равных с другими в бучу! Не дал Бог мочи состязаться. Стеснялся в толчее сверстников ославиться смрадным выхлопом или окропить лед многоточиями янтарной урины... А в юности стало и некогда. Отец его погиб в крестовом походе, и будучи он единственным сыном, принужден был заняться сельским хозяйством имения, коего сделался наследником, а когда по выбору мамочки женился на Цецилии, та выказала склонность и тем освободила от иных забот, кроме как размышлять о мнимости матерьяльного мира. Слонялся по замку немыт, нечесан, с розовыми от постоянного пребывания в полумраке белками глаз. Цецилия в начальный период замужества искала близости и даже добилась от него сына, но он все ниже тупил зрак, все более преисполнялся страхом. Не потому ли все реже годился для совокупного ложа? Мамочка звала его глупышом, покуда способность говорить не утратила. Нрав имела суровый, ведь рано лишилась мужа, все одна да одна управлялась с поместьем, и замком заведовала, и сына растила, - трудно! Спасибо сэру Виллиаму - некогда испытывал неразделенную, по старой памяти опекал бескорыстно. Желающих свататься премногих не пускала на порог. Иные предпринимали осаду с целию захвата замка и принуждения владелицы к венцу - сэр Виллиам прискакивал на зов рога, с каковым взбегала на замковую стену верная мужу вдова. Да, по голове гладила скупо. Омрачала младенчество, да и отрочество тоже, угрозою розог, - хотела воспитать настоящим рыцарем. По прошествии лет удостоверясь, что сие не получится, стала гладить по голове чаще. "Глупыш ты, глупыш", - шептала, улыбаясь с подушки. Нездоровилось ей с памятного зимнего полдня, когда обмочился и пукнул впервые неурочно. Или тогда только примечать стал, что болеет мамочка? Медленно меркла под балдахином. Уже не размыкала уста и вежды, когда на коленях рыдал подле. Ведал, что и жена заглазно именует его не иначе, как "мой глупендяй". Не обижался. Можно понять Цецилию в ея положении вдовы при живом-то муже. Из полумрака закутков звучали иногда ритмичные вскрикивания супруги, мужское рыкание. Разумеется, нуждалась в отдыхе, уж коли взяла на себя заботу о замке и землях. Валеты сквозь зубы ворчали: "Недоумок". Сын мрачнел при виде презрительного отца. Сэр Эдгар признавал правоту ближних. Ну да, недоумок. Ведь так и не сумел выработать теорию, опровергающую отроческое отчаяние. Но и в творениях умов именитых помощь получить не льстился. Перелистывая чтиво развлекательное, не верил веселости автора. "Либо притворяется, либо еще глупее, чем даже я. Неужто не соображал, где и для кого сочиняет комическое? В юдоли ведь!.. Для обреченных же!.." С особенным тщанием не дочитывал произведения авторов, отчаявшихся жизни. Отшвыривал рукопись. Тряслись руки, ноги. Испускал непроизвольные пуки. Сии прехрабрые любомудры отваживали к смерти! Но прекратить существование мнилось еще ужаснее, нежели продолжать. Отчего же? Ах, слабоват был умом, слабоват. Соседи не приглашали на пиршества, или там на турнир, или там на охоту. Надоело, что круглый год сказывается нездоровым. Так не бывает! А - было. Усталым себя чувствовал, сколько себя помнил. И то: жить в экзистенциальном страхе - к тридцати трем годам как не устать. Да ведь и жил в мире, коему еще древние предрекали скорое небытие. Ветр в английском захолустье веял мерно, но ежели вдруг с моря задувало, сэр Эдгар находил сему явлению только два толкования: либо негде за морем взорвался волкан, и воздух, вышед из недр, сюда стремится, оный возник однако не сего дни или хотя бы вчера, но представляет собою часть общего количества, отпущенного при сотворении мирозданья, почему, кстати, нелепо называть сии дуновения свежими... Либо, напротив, то первые порывы бури апокалиптической из предбудущего. О, примечал предзнаменования! Деревья вкруг замка произрастали весьма древние. Верещатник остался прежним с тех пор, когда младенцем ползал под развесистыми сими кронами. Или вот наблюдал недавно, как рыбари выбирают невод. Спросил у простецов, одинаковы ли теперешние рыбы с теми, коих вылавливали тридцать три года назад? "Sure", - отвечали, недоумевая и переглядываясь. Так! О сем и догадывался. Мир не меняется! Будучи извлечены из моря на мураву, рыбы разнились лишь величиною, понимай, веком. Одна явно допотопная запомнилась. Лупоглазая, с голубыми губами, покрытая внахлест твердыми, как ногти, чешуинами. Не исполнился восторгом пред чудом долгожительства. Ведь так и прозябала равная себе. Правду, значит, пишут: мирозданье было сотворено все сразу. Сотворено давно и на время, отмеренное с точностию до тысящной доли мига, не долее. Причем время ничтожится быстрее мирозданья, каковое в своем существовании отстает. Древнего в мире больше, чем юного - эвона сколько в одной только Нортумбрии вполне еще прочных руин. На строительство новых замков или для возникновения рыб, качественно небывалых, времени, похоже, не осталось. Поутру утешался солнечным восхождением, но и сетовал ежевечерне: "Закатывается же!" Жемчужный диск еле просвечивал сквозь серые облаки. Правда, пилигримы, гостившие в замке, уверяли: "На севере везде так, а вот в Святой земле по-прежнему светло и жарко!" Но что означает "по-прежнему"? Никто из пилигримов и представить не в состоянии, как пламенел сей диск в первый миг от сотворенья. И сотворен же озарять плоскую нашу планету равномерно. Нет, оный уж догорает, уж истощились энергетические ресурсы оного. Отроком задавался вопросом, куда девается время. Некоторый пилигрим поведал, что негде обнаружил скважину, откуда вылетает ветр. Насупротив - не устоять на ногах, воздушный поток отбрасывает на милю. "Не удастся ли отыскать и отверстие, куда утекает время? - озадачился отрок. - Не все, конечно, а хотя бы местное, нортумберлендское?" Заглядывал в пещеры и прочие впуклости земной коры. Однажды зверь, норы обитатель, кохтями цапнул за нос. Не устрашен кровопролитием, развивал размышление: "Вот ведомо, что Рай существовал в прошедшем, существует в настоящем и даже будущем временах. За его оградою некогда произошли известные события. Но ежели Рай существует и будет существовать, то ведь и события сии доселе там повторяются и повторятся. Ева как срывала яблоко с древа, как грызла сей плод белыми молодыми зубами, искушая сим примером Адама, так и... О, не ясно ли, что события сии произошли, происходят, произойдут не во времени, и Рай, следовательно, для меня-то, минутного, не существовал, не существует и никогда не будет существовать. Сие несомненно, увы. Сомненно зато утверждение ученых, что расположен сей заповедник на Востоке. Ну нет же! Нет! Рай вообще в инаких измереньях, каковые, заметим, нельзя и помыслить неподлинными. Но тогда получается, что время и пространство, в коих обретаемся, мнимы? Вот именно! Именно! Матерьяльное лишь по видимости плотно, а навостри зрак, и приметна станет ветхость веществ - всех! Самый воздух утл, и ежели провертеть в нем диру, не вскроется ли пустая мрачность? При мысли сей обливался хладным потом. В юности будучи посмелее, уходил в безлюдные верещатники и подолгу протыкал палкою воздух. Ныне уж не сумневался, что зримо существующее в сущности не существует. Очевидно же: чем менее времени отпущено для возникновения живого существа или на строительство нового замка, тем призрачнее оные, а зачастую насквозь таковы. И пускай potentia творческая в человечестве отнюдь не исчерпалась и призраками полнятся наши сны, претворить их в нечто осязаемое времени уж не хватает. К счастию, не мучился кошмарами. Бывало, что пробуждался, ощупывая левую половину груди - на месте ли сердце? Но случалось сие не чаще, чем раз в три дни, то бишь как у всех, кого ни опрашивал. Одно лишь сновиденье, с загадочным являясь постоянством, смущало: Некий виделся град на берегу широкой реки. Серые облаки, в точности нортумберлендские, застили небо. Сэр Эдгар якобы стоял на гранитных набережных плитах у входа в сад. Жадно озирал панораму противуположного берега. За невероятным мостом золотился шпиц с ангелом на верхушке. Озрясь назад, дивился садовой ограде: железные жерди венчались позлащенными навершиями. Чудный сей частокол делили на равные промежутки круглые каменные колонны. Зеленые купы за оградою кипели!.. В слезах пробуждался. Спиралось дыхание. Мнилось, что жил некогда в граде сем! Ведь вот всего лишь мнилось, а уж так тосковалось. Допытывался у пилигримов - разводили руками. Затрудняемся ответить, в каких краях град сей. Проникал смысл сновиденья: воображать инакие время и пространство - только мучиться. Ум человеческий не умеет отличить мнимое от существующего. И не я один сие сознаю, - многие. Чувствуют же почти все. Человечество, зря непрерывное ветшание веществ, издревле ужасается и в сем ужасе не ведает, что творит! Зло в мире - от недостатка времени. Огненный дождь, мор, засуха, землетрясение суть следствия его утечки, ибо мирозданье уж не успевает восстановить самодостаточное равновесие. Но ведь душа даже и простеца болезненно отзывается на процессы, точащие макрокосмос! Вот почему сарацины ополчаются на христиан, латиняне колотят греков, датчане высаживают десанты на британский брег, а шотландцы норовят вторгнуться в Нортумбрию. Да и в самой Нортумбрии все - страшные. Все - противу всех! Вспомнил о сообщении сэра Виллиама. Голова закружилась, колени задрожали. Остановил коня, бледный. Спешился. Прижался щекою к горячему конскому крупу. Всхлипывал, шмыгал носом. Вот и приблизился конец света. Ужли? Солнечно. Морозно. Ни зарниц в небесах прозрачных, ни трясения почвы под ногами. Не ждал, что случится сие толь буднично. Бодрый старец в блестящей кольчуге поведал престрашное и поскакал к молодой жене, поскакал вовсе не утешаться, а попросту тешиться. Но, быть может, морской горизонт уж зыбится острыми носами кожаных лодок тартарских! Вдруг свист искусственного происхождения дошел до слуха. Очнулся от задумчивости. Свист, точно, был художественным. Отметил, что конь, предоставленный самоуправлению, завез его в дебрь. Стволы древес росли часто. Двинулся на звук чрез кристаллические кустарники. Скоро вышел на поляну. Опаленные мразом грибы чернелись несметно. Посредине пылал костерок. Подле оного на ковре сидели друг напротив друга двое мужей в кожаных одеяниях и кожаных же колпаках. Один и насвистывал на дудке. В отдалении маялся многоребрый сизый ослик. Еще поодаль семенила по кругу девица, переступая с носка на пятку, откидываясь прегибко или кланяясь пренизко, а то и вертяся волчком. При сем была она плотного сложения, коротконогая, с круглым желтым лицом. Платье туго облегало плоскую грудь, но внизу весьма расширялось. Чрез умышленные прорехи мелькали мускулистые икры. Муж отложил дудку. Девица теперь двигалась без сопроводительного свиста. В тишине чавкали давимые ея стопами грибы. Черные власы развевались. Сэр Эдгар уже смекнул: "Сии суть странствующие жонглеры!" Подтверждая его догадку, девица вспрыгнула на спину ослика, встала на руки, согнула голые ноги и просунула их под мышками так, что подошвы башмаков вылезли по обе стороны побагровевшего лица. Премерзостный представила собою вид! Не терпел акробатов и лицедеев. Решил удалиться, но тут другой муж заговорил, и сэр Эдгар тотчас заслушался: "Эх, , ведь я же некогда был приходским священником. Про обязанности свои тогдашние распространяться не стану, все равно не поймешь, да и не исполнял я обязанности сии надлежащим образом. Был относительно молод, собою пригож и не косноязычен. Грех похваляться, но всех женщин селенья, включая уродливых, удовлетворял, жизнеповедением таковым нимало не совестясь. Но вот с некою Эммою, женою кузнеца Джона Смита, случилась у нас любовь страстная, продолжительная. Мы сделались беспечны, кузнец доведался о наших сношениях. Подстерег меня в роще и при помощи двоих подмастерьев вознамерился проучить. Защищаясь, я в злополучной запальчивости умертвил одного из нападавших. Доныне жалею, что не мужа. Эх, Эмма. На суде ничего другого не оставалось, как отказаться от подданства. Поклялся покинуть Англию раз и навсегда. Суд содрогнулся. Я стоял на своем. А, ты же не ведаешь, как у нас поступают с такими, каков я был, добровольными изгнанцами. По прибытии в порт, ближайший от места преступленья, должно изгнанцу немедля погрузиться на любое плавучее средство. Ежели корабль отбывает завтра или, допустим, чрез неделю, обязан от утра до вечера стоять по горло в море, дожидаясь отправления, а ночевать разрешается ему лишь на скромной береговой кромке. Довелось и мне испытать силу своей воли. Отвезли меня в порт. Море на беду волновалось. Умолял корабельщиков поднять якоря и парусы. Колебались. В рубище, с крестом деревянным в руках три дни, как прибрежная водоросль, колыхался в ледяном прибое на границе между Альбионом и всем остальным миром. Но хлад волн - ничто в сравнении с ужасом, каковым обнимался. Никогда не было мне так страшно, ни до, ни после. Жить предстояло в чужом каком-нибудь краю, по чужим каким-нибудь законам. Хуже нет, чем сия пограничная ситуация, как обозначают таковое состояние филозофы, коих ты не читывал и вряд ли прочтешь, поколику грамоты не знаешь. С тех пор я довольно скитался, воевал в Испании и ходил с купеческими караванами на Восток, в плену тартарском томился, ведаешь сам, каково в плену тартарском, недаром вместе бежали, да и покуда пробирались обратно в Европу натерпелся страху от общения с непредсказуемым народом твоим богоговенным, а вот пережитое в первые дни изгнанничества никак не избуду. Хуже нет пограничной ситуации, да". Сэр Эдгар слушал, редко дыша. Рассказчик сочетанием мужественных черт, синими глазами и веком напоминал сэра Виллиама. Муж с иноязычным именем, на дуде игрец, сидел к сэру Эдгару задом. Девица соскочила с ослика, не сменив позу, подпрыгивала на земле, как огромная лягуха. Хлюпали грибы. "Почему, спросишь, надумал вернуться на родину? - сызнова заговорил первый. - Долго объяснять. Ладно, попытаюсь. Однажды в некоторой пустыне наш караван набрел на оазис. Изможденные путники мои бросились к источнику, я же из свойственного мне любопытства углубился в чащу. Шел, и заметил, что поднимаюсь в гору. Воздух, вот интересно, не холоднее становился, а уже обжигал паром, как в русской вашей бане, в которой, помнишь ли, стало мне худо. Взошед на вершину, увидел я сад, обнесенный высоким дощатым забором, поверх коего тянулась железная колючая проволока. Пошел вдоль забора и очутился насупротив слепо-глухо-немых врат. Впрочем, нашел щелку. Приникнув, обомлел. Природа по ту сторону превосходила себя самое. Растительность источала неслыханные ароматы. Птицы порхали стаями - рябило в глазах. Парами непривычными по составу и поведению что ни миг шествовали звери. Например, лев и лань. Или - волк и овен. Тут увидел я и человека. Сей был наг и густо зарос волосом от головы до пят, невелик, но с чрезвычайно развитыми членами. Чело как таковое отсутствовало, зато средняя часть лица весьма выделялась. Тусклым был взгляд маленьких карих глаз его, и толь горестно горбился, перебегая с места на место, что руками досягал до земли! При виде мужа сего тошно мне стало, . Не оборачиваясь, спустился с горы. Проникаешь ли в смысл моего разочарования?" В ответ слушатель извлек из-под полы бутыль, а из кожаного мешка высыпал горсть крупных коричневых ягод. Собутыльники поочередно приложились к бутыли, молча жевали ягоды. Девица в позе лягушки как бы окаменела. Ослик переступал с копыта на копыто. Сэр Эдгар, замерев за кустом, замерзал. "Хороши финики, - задумчиво сказал бывший священник, - хороши. И вот не забывал я, , о виденном в сем саду, долгие годы помнил, а потом, уже в плену тартарском, довелось познакомиться с некоторым мужем, тоже англичанином. Сей в течение наших с ним ночных в бараке перешептываний не раз излагал следующую теорию: "Ежели, мол, вообразить карту мира и на оной точки, в коих развивались и развиваются исторически значимые сообщества, заметно же станет, что человечество в расселении своем сдвигается с востока на запад. Все древние царства возникли и пали на востоке, теперь вот на западе мощные младые королевства, но и сии придут в упадок, тогда последние очаги общежития и культуры переместятся в совсем уж тупиковые западные пределы, а после постигнет человечество гибель. Утешался, умирая, что поколику Солнце ежеутренне восходит с востока, то аналогично и человеческая история повторится в точности заново. Всяк утешается, как способен. Я же, непрестанно о разочаровании своем памятуя, рассудил за лучшее провесть остаток века на обреченном западе, нежели в плену тартарском дожидаться, когда еще просияет не вотще ли чаемый ex oriente lux. Почему и на побег решился, и вас, неприхотливых, убедил таки. Жизнь здесь тоже не сахар, но уж такого бардака, как в земле вашей, нету. И пускай мне, нарушителю клятвы изгнанничества добровольного, на помилование рассчитывать не приходится, не жалею, что вернулся. Эге, костерок наш еле теплится, айда за валежником, ". Мужи поднялись с ковра и неспешно прошли мимо куста, за которым таился сэр Эдгар. Оба отличались статью, только муж с иноязычным именем оказался юн, румян и в шаге шаток, будучи пиан. Ослик трусил следом. Сэр Эдгар раздвинул ветки. Ничего толь не желал, как погреться подле пусть даже угасающего пламени. Уже протягивал к угольям персты, как вдруг услыхал звучание гортанного голоса. Нарисовалась девица, которой присутствие упустил из виду! Помавала руками, приглашая присесть. Отступая, оступился. С перепугу пукнул. Девица оскалилась - зубы вострые, белые. Ни жив, ни мертв сел на ковер. Приземлилась обок. Громадною ладошкою сгребла с ковра оставшиеся ягоды и в сем естественном ковшике поднесла угощенье ко груди сэра Эдгара. Перстами, не чуя оных, вставил ягодку в уста. Вкушая, не ощутил вкусовых качеств. Продолжала говорить. Мало того, что не понимал, но и слышал смутно. Лицо надвигалось как Луна. Руку властно поместила на плече сэра Эдгара - сладко взныло внизу. Елозил задом, отодвигаясь. " !" - вдруг сказала, глядя презрительно. Но тотчас и смятение отразилось во взоре. То с вязанками хвороста в обнимку возвратились мужи. Престарелый улыбался приязненно, однако сэр Эдгар вскочил и попятился, тем паче, что юный муж повел себя отлично от престарелого. Швырнув вязанку в уголья, подступил к девице и размахнулся разудало. Оная же пригнулась и стремглав боднула оскорбителя в живот. Отлетел и сел на землю. Потрясая кулаком, кричал нежданно визгливым голосом одно и то же иноязычное слово: "Блядка! Блядка! Блядка!" Меж тем престарелый бережно положил вязанку подле костра и с простертыми объятиями двинулся к сэру Эдгару. Лукавый! Не признавался ли давеча, что убийца и клятвопреступник! Нет, подале от сих сумнительных знакомств! Поворотился спиною к лицедеям и припустил прочь. Поскользнулся на грибе, удержался на ногах, кинулся в кустарники. Чудом наткнулся на заждавшегося, заиндевелого коня своего. Прыгнул поперек. Конь, угадав настроение, с места понес на предельной скорости. Мигом вынеслись из страшного леса на открытое пространство, не менее страшное. "Митин журнал", вып.52: |
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Журналы, альманахи..." |
"Митин журнал", вып.52 | Алексей Шельвах |
| Copyright © 1998 Алексей Шельвах Copyright © 1998 "Митин журнал" Copyright © 1998 Союз молодых литераторов "Вавилон" E-mail: info@vavilon.ru |