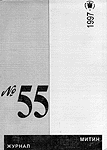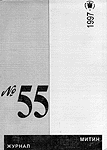Начнем Новую Еду, военного типа. Как бы человек в ватнике ползет по песчаным пригоркам, вдавливает в желто-белый песок молодых маслят - что их фарт, ему теперь нужны не они, и он не пожрет их немедленно, хрустя прилипшей окисью кремния, слизывая, соскабливая с губ их детскую молочную пленочку.
Человек ползет чуть косо вдаль, любая природа вокруг него делится на органическую и неорганическую, и, различаясь так, обе опять вместе делятся также на то, что ему надо, а что ему - нет, где его Цель и является искомой Едой нового для него рода, причем последнее, новизна, следует именно из мучительности поиска.
Напомню, человеческое тело весьма протяженно в пространстве и состоит из многих тел, друг о друге не помнящих и подвешенных, что ли, вдоль общей цепочки, длинной ниточки его души, которую - как самостоятельное длительное тело - оживляет уже его дух, чьи намерения в случае любого жеста и шага не ведомы не только шевелящемуся винограду тел, но и даже душе, как их общей нервной ткани.
Значит, человек сохраняется тремя вещами: пурпурным, тяжелым платьем крови, серебряной цепочкой, по-над которой парит душа, и золотой повязкой, укрепляющей лобные кости духа; все части человека хотят Еды.
Не Еда выбирает себе человека, но тот по необходимости нарекает вещи вокруг себя Едой, но они не хотят стать едой, и военная борьба между человеком и природой в том, что он желает написать на ее кусках слово "Еда", как бы поставив тавро, а природа хочет остаться свободной и жить как знает, что говорит о человеке как о хищном сотруднике мироздания.
Но это не так, вещи природы, правомерно не желающие стать Едой, человеку не нужны и проходят сквозь нас внутри нашей бесчувственности. То есть справедливо считать, что нашим чувствам открывается лишь то, что подлежит съедению нами.
Начиная Новую Еду, заявим выбор: предметом нашей трапезы станет теперь Европа. Принципиальная новзна тут двояка, и прежде всего в том, что Европой могут насыщаться все три наших части, откуда ясно, что прямую пользу от пищи получают все они, а насладится сытостью некая скрытая от нас, четвертая.
Но и в том, что Европа велика и есть ее - серьезная затея, поскольку речь не о том, чтобы уподобиться прозрачному комару, старательно клюющему быка кое-как, ее надо пожрать целиком и даже стать ею - что заодно поможет ощутить и наши собственные размеры, внутри которых - как станет понятно - есть место не только Европе или Арктике, но и земле или деревянному кораблю.
Так как хвост Европы географически находится у нас в руках, то, наматывая его на локоть, мы можем размеренно притягивать ее к себе или себя к ней; когда же начнут менять колесные пары и потащатся за окном польские перелески, то следует уже кусать ее глазами - что нас не насытит, но позволит установить приближающиеся очертания пищи, а это важно для борьбы: Европа не творог, чтобы сдаться нам в рот с удовольствием и белым флагом.
Начнется длинный кукольный театр, где вдоль вагона станут появляться одинаковые лица в разных мундирах, произносящие короткие звуки и схоже дергающие руками, беря в руки паспорта и щелкая на них разноцветные квадраты и овалы, переводя в длину поезда, срисовывая на нее географическую карту, обогащаемую матерчатыми фигурками этих людей, каждый из которых есть вставшая на две ноги граница; ожившая линия со схемы разделки туши из мясной лавки. И так до некоего окончательного перрона, падая на который, выходя из поезда, хорошо немедленно умереть от разрыва сердца в сыром утреннем воздухе, слабо пахнущем сладким запахом привокзальных блинов.
Дома из бурого кирпича, дома из темно-красного кирпича с белыми тонкими рамами и черными стеклами, гулкий пустой вокзал, сырой, с расписанием черным по белому, как у врачей; паром, в море стынет рыба, в здании вокзала только таможня, здесь никто не сходит и никто не садится, побережье, там одно расписание поездов и обязательный кассир, не продавший за всю свою службу никакого билета, наконец - не выдержит, купит билет и уезжает; присылают нового. На доме станции написано: "Дания".
Новая Еда бесплатна, но оттого не хуже, ведь уже и запахи бесплатны: конечно, потому, что за едоком - не проследишь. То есть вне контроля уже и воздух; двигаясь поэтому вслед запахам, можно уйти из тела в собственную душу; там, вцепившись в чувства, ей неподвластные, добраться до духа; пристегнувшись к тому, что непостижимо и для него, можно оказаться внутри Бога, увеличив таким образом его размер на величину себя. Таким образом, величина Бога зависит от совокупности наших смутных переживаний и неясных желаний.
Смерть всегда негигиенична, куда уж - на перроне, засыпанном брошенными билетами: пробитыми, с дырочками, сквозь которые вытекала поездка; между путями цветут желтые нарциссы, и, значит, перрон не Россия, где поезда норовят прийти утром, здесь приезжий оказался среди чертополоха ночных огней; негритянки, такие темные, что черные чулки на них кажутся бежевыми; на ногах у них высокие ботинки, шнурующиеся до колен, дырочки для шнурков окантованы черными ободками из тонкого металла, шнурки с запасом и свободные их концы свешиваются почти до уровня глаз человека, ненужно решившего умереть на перроне, как крестик в центре круга, вместо того чтобы наесться неоном и светом в неопасной темноте.
Умирающим скажу, что самое неприятное в жизни время состоит в ожидании, когда зароют тело; зато на смену брезгливости придет труднопредставимая для не умиравших еще ни разу радость рассасывания. Что тут можно сказать? Наиболее сладко рассосаться в среде, по консистенции находящейся между черноземом и песком, - кажется, такие почвы называются подзолистыми. Приятно разложиться и в песке, но здесь не хватает, что ли, утонченности удовольствия: приятность слишком бесхитростна и прямодушно физиологична. Что до чернозема, то он немного жирноват, как жирна мгла, и скользок, но все это, конечно, на чей вкус. Неплохи и сожжения, но все же расасываться лучше, чем рассыпаться по воздуху, пачкая дождь.
Без предварительной смерти, хотя бы и в легкой форме, к Европе приступать не надо: человек, не умерший хотя бы только наружным слоем кожи, воспримет не Европу, а то, что почувствует там его эпителий. Не умерев, в глаза вам будут бросаться ее пресные части вроде вывесок, витрин, лавок, китайских запахов, невидимых полицейских и относительно оживленной ночной жизни. Соотнеся Европу как продукт именно с этим, вам нечего и надеяться съесть Европу в виде ее центральной точки, значит - вы ей безопасны, это она уже совершенно победила вас. Как, словом, это бывает в жизни, когда та становится просто желтой шерстинкой на зеленом сукне.
Надо помнить о щелях в человеке между платьем и цепочкой, цепочкой и повязкой; между пурпуром и серебром, серебром и золотом: эти два отверзтых промежутка не позволят человеку чавкать оберткой, поскольку Еда Нового Типа входит в него именно через эти щели. Вообще, Европа прекрасна, ее голова из золота с серебром, во рту ее двунадесять языков, в городах не видно военных, автобусы ходят по расписанию, автомобили не сильно чадят, толпа на улицах хотя и состоит из людей с привычными усталыми лицами, которые с началом сумерек белеют и становятся выпуклыми, но вежлива и мила, а спички зажигаются с таким же точно звуком, хотя бы они и черные палочки с белыми выпуклостями серы.
В общем, это как когда яркая лампа висит над столом, и белая скатерть, и много людей, которые пьют водку в хрустальных объемах, то - когда один из них протискивается по нужде, - что творится с поверхностями в рюмках.
Но чтобы взять отношение к ее тайне, к ее Центруму, надо, умерев, сохранить в себе явь, не меньшую, чем у господ, ночью в полуподвале над зеленым сукном играющих в небольшие карты или в раскатывающиеся щелкающие шары.
Но предуведомления к делам, доступным любому, нехороши. Если обучать этому, то, значит, там уже кто-то был, вернулся и рассказывает - а зачем ходить туда, откуда возвращаются? Да и то, когда люди переговариваются через щель в заборе, дюйма в три шириной, то видят только глаза друг друга и многое остается неясным, потому что не видно лица, а звук сползает вниз, на землю.
Да и трудно говорить, когда живешь в девятнадцатый раз, это сложно понять - девятнадцатый раз, что в обычной жизни ты делаешь девятнадцатый раз, да еще и помня, что именно девятнадцатый? Живешь как восковой муляж пчелы и только видишь перебегающие по людям огоньки, едва кто-то увидит чье-то оголенное плечико, грустно зная, что все дальнейшее зависит только от языка речи.
Когда бы, например, я писал теперь на польском, то в окне моей комнаты был бы виден слева небольшой костел, крашенный чем-то похожим на белую известь; за тощей, изящной оградкой. Не знаю, ходил бы я туда, но знаю, что когда бы писал по-польски, то не удивлялся бы, как гибкость этой галантной речи изгибает мощные лицевые мышцы одного из землекопов, роющего теперь по соседству траншею под телефонный кабель - отчего, надо полагать, следует предвидеть некоторое повышение цен в кофейне у пана Анатоля. Поскольку это ведь справедливо, когда они повысятся с появлением там телефона, тем более учитывая, что на нашей варшавской почти окраине мало есть что приятнее, чем сидеть вечерами у пана Анатоля и поигрывать в шахматы под небольшой, обтянутой оранжевым шелком лампочкой, а если тебе туда смогут еще и позвонить, то пусть кофе и станет немного дороже.
В общем, когда бы я писал на польском, то жил бы - отчего-то мне кажется - на варшавской окраине, глядел бы в окно своей комнаты всякие пятнадцать минут, откликаясь на звяканья колоколенки то раздраженно, то отчасти благодарно за сообщение мне о том, что время идет, либо просто невпопад поднимая голову над бумагой, на которой я писал бы по-польски.
Я так уверен, что если бы писал по-польски, то был бы поляком и, видимо, вовсе иначе глядел бы в свое оконное стекло на костел - столь незнакомый мне теперь, а тогда бы меня там и крестили, и конфирмовали, и, конечно, я знал бы его внутреннее устройство, в детстве бегал бы по хорам - там, где теперь выставлены в витринах цветные иллюстрации на божественные темы; кажется, они и тогда уже были там, только не такие цветные, - но я давно уже не поднимался туда. Еще, похоже, что в отрочестве я, завидя на углу ксендза навстречу, шнырял бы в подвернувшуюся подворотню, дабы не оказаться объектом его очередных упреков, что, безусловно, снабдило бы меня легким налетом игривого свободолюбия, неминуемо выразившегося бы в том, что я писал бы по-польски.
Когда бы я писал на польском, то, ясно, впадал бы в умоисступления, вызываемые моими трудами, и не умиротворяли бы меня тогда ни костел с позвякиваниями, ни дребезжание стекла в шкафу от моих расхаживаний по комнате, однако в эти не трагические, но естественные минуты я бы, похоже, не выл бы уже громко что-то вроде "черный ворон, д'что ж ты вьешься, д'над моею головой", а что-нибудь другое, "на паркетах и на мостах, пшиба-пшиба" хотя бы, что, понятно, внесло бы свой ритмический рисунок в ход моих размышлений и проявилось в том, что я писал бы по-польски.
Тогда бы и друзей моих звали иначе: особенных отличий в наших забавах, признаюсь, не предвижу, опираясь на наличие славянских корней, которые, видимо, развешаны между нами в воздухе, несколько провисая, как провода. Так что неважно даже, что в минуты особенно удачно совпавшего расположения духа мы отправлялись бы на трамвае в центр, ели бы спагетти с печарками и красным вином, выходя затем из кабачка почти прямо на площадь Старого Рынка, оглашая чей голубеющий в майских сумерках воздух хоровым пением арии Царицы Ночи; увы, кажется, сия милая чувственность не заставляла бы обращать на нее специальное внимание, пиши я в самом деле по-польски.
Тогда - дыши я по-польски - мне это было бы приятно, и только. Идя по Новому Святу, я зашел бы в кавярню - не заметив почти ни улицу, ни кавярню, разве что - парочку пожилых господ, под небольшой лампочкой в малиновом шелковом абажуре мучающих шахматы, или колокольню в окне, на верхушке которой расселись, созерцая нас оттуда, столетий семь-восемь, а я сидел бы, глядя на нее, и помнил бы Костюшко, как нынче, значит, помню Калиту, а Бруно Шульца - как Бруно Шульца.
Стемнеет. Господа затеют очередную, уже шестую, кажется, партию, опять мягко затопают пешками, а фигуры станут поднимать так высоко, что видны малиновые байковые нашлепки на донышках; в старомодной радиоле зеленая лампочка настройки, плетеный динамик, там дует какая-то бархатная труба. Пахнет каким-то легким и непонятным дымом.
Или вот этот, сорокалетний, опрятный, в общем, человек, который заснул на коммунальной петербуржской кухне: на обычной, захламленной, не очень приспособленной для спанья, - уснул на табуретке, привалившись к стене, - захмелел, посапывает, улыбается во сне. Давно взрослый, серьезный, опрятный, уснул - выпил, что ли, много или устал накануне, вот и спит, привалившись к стене, рискуя сползти на пол этой не слишком метеной кухни, и улыбается. Чему? Тому, что сон видит - про то, как уснул на случайной кухне, а сердце чуть сыро скрипит, как губная гармошка, да душа вывешена на серебряной веревке и болтается там, что ли, сохнет, как выстиранное исподнее.
В Европе много разного: разных спичек, всяких картинок, вещей позолоченных и простых, синих, зеленых, сиреневых и лиловых, языков, людей и городов; или начать с того, как рано утром с легкого похмелья пьешь пиво на парижской окраине, а там дома невысокие, этажа в два-три, белесые, снаружи моросит, в заведении чистые большие стекла, тишина, ни души, пьешь пиво и бессмысленно, с нежностью человека, одолевающего сухость в душе, улыбаешься на этот дождичек, на светлые дома, на витрину автомагазина напротив с гигантскими и блестящими агрегатами там. Или, скажем, с разнообразия гарнитур латинского шрифта, где среди букв есть косо перечеркнутая "О" или "О" с двумя точками сверху; все одно, даже и не задумываясь об этом специально, Европу целиком не одолеть, и остается обнаруживать ее тайну: то ли черную, то ли прозрачную точечку, откуда она и растет.
Может быть, такой тайны нет вовсе: у всякой женщины на теле, например, есть точка, на которую взглянуть - и женщина станет замечательно безумной: они-то о них отлично знают и прикрывают либо одеждой, либо как-то еще; а есть и другая, из которой в человеке дует жизнь, но точки не могут состоять друг из друга, значит, у нас нет одной большой тайны, а есть много больших тайн.
Сами европейцы устраивают жизнь так, чтобы не заботиться об этом, и тщательно все размечают. Можно сказать, что они договариваются с Европой сосуществовать, чтобы никому не было опасно. Так что печатают, например, всякие справочники о том, как в их стране функционирует государство и бытовая жизнь: что - достопримечательно, что - традиционное блюдо, как у них болеют, заказывают билеты, делают покупки, развлекаются и кормят общественных голубей; и там сказано все, что надо, и не указано ничего другого. Особенно это полезно приезжим.
Потому что в любом городе Европы есть щели, в которые человек, не знающий на ощупь всех городских соединительных досок, может провалиться и стать свидетелем такого, что не понравится Европе и не известно самим горожанам, которые поэтому даже при всем желании не смогут ему помочь, когда в каком-то не учтенном справочниками закоулке Европа примется хрустеть его душой.
Движение в Европе, как правило, начинается в пять утра, заканчивается около половины первого ночи, но это время - от полпервого до пяти - нельзя считать в этом смысле особенно опасным, хотя бы оттого, что оно представляется таким: любой пешеход тогда напряжен и отчетливо ощущает себя телом, которое необходимо доставить по надежному адресу, а щели в Европе слишком узки, чтобы в них могли провалиться даже семьдесят кило плоти.
Утро в Европе обычно раннее и тихое, сквозь окно душевой видны дома и деревья; смотришь в окно за завтраком и видишь, как между домов едет машина, смотришь из-под самой крыши, и взгляд падает вниз почти вдоль дождя, и тот виден как сужающийся пучок удаляющихся капель, капли уменьшаются почти круглыми шариками и меняют цвет: от серого цвета облачности к темно-серому и бурому домов, становятся светло-белыми, пролетая оконные переплеты, и напоследок делаются красными, синими, желтыми и зелеными - мимо вывесок за мгновение над тротуаром.
Пришельцы ей не страшны, различие их намерений ее не волнует, как не волнует разнообразие различий китайцев, арабов и любезных индусов, которых она вводит в свои народы, как без тени сомнений приняла в состав евроеды продукты, на континенте не произрастающие, все эти киви, авокадо и совсем непонятные вещи, которые они все равно едят. Отношения с ней просты: у вас есть тайна, у Европы есть тайна; вы хотите ее тайну и стать независимым, а она хочет себе вашу тайну, а взамен, может быть, предоставит вид на жительство.
Что бы я делал, живи в Копенгагене? Писал бы буквами, среди которых есть косо перечеркнутое "О" и "А" с маленьким кружком сверху, дружил бы с Кристиной, у которой в одном рассказике один тип утверждает, что утром хорошо то, что желтое: кукуруза, картофель, вареное яйцо без белка; болтал бы с Борумом о профессиональных аспектах всех искусств подряд; ел бы разноцветную - от разных маринадов - селедку, шлялся бы взад-вперед по городу: сворачивающий за угол бетон какого-то здания; заросшие книгами, заросшими пылью, букинистические подвалы; пешеходные древности; три каменных сильно обнявшихся грации не оставляют между собой места для Париса с его румяным фруктом; прятался бы от дождя, мусоля в голове печаль, что отсоединен этот город от какого-то толстого провода, и, когда печаль затвердеет в грусть, шел бы на вокзал и уехал ночным поездом в Берлин.
Поезд приходит в Берлин в полвосьмого утра, на вокзал Лишенберг, в восточной части; сыплет мелкий, почти рукодельный дождичек; здесь все непонятно так, как если, идя по побережью, увидеть впереди парочку на песке, то трудно понять издалека, что там - поцелуй или искусственное дыхание: два городских тела почти плотно сошлись в полусыром двояком дыхании.
Я думаю так, что если я думаю так, то Европа еще меня не переварила, а раз так - раз уж ей не удалось это сразу, - мои шансы возросли, что уж говорить о стратегической выгоде места и времени: половинки срастаются и еще не срослись, так что где же еще быть европейской тайне, как не в щели между станциями эсбана "Александерплац" и "Цоо"?
На западной окраине востока весна черно-белая, основу ландшафта здесь составляют туннели, изнанки мостов над насыпями надземки: закопченные, темно-серые, с сырым эхом, на обочинах свалены треснувшие белые куклы в черных кружевных платьицах с зеркальными, чуть запотевшими губами, капает ржавая вода, и постоянно грохочут поезда, но этот звук постоянен и вычитается из окрестностей, участвуя в них лишь зудящим звоном успокаивающихся над головой рельсов. В этой части города из него тут же вычитается все, что имеет цвет: от деревьев останутся лепестки цветов и стволы, а листьев нет для взгляда, их можно потрогать. Длинные, поворачивающие подворотни, покосившиеся железные ворота, груды угля в глубинах дворов, в которых долго, уменьшаясь, исчезает звук проехавшего трамвая - другой, не как от поездов: глуховатый, постукивающий звук проехавшего трамвая, из стен подворотен и домов медленно сыплется штукатурка, старый цемент брандмауэров. Стены шершавы на ощупь, но что узнаешь руками?
Демон здесь появляется всегда в половине седьмого утра, в такую рань его не рассмотришь, слипаются глаза, он, что ли, пепельный, невнятный, будто высыпался в комнату из дымохода, и потому словно колышется на сквозняке, сифонящем в щели окна, и слишком сконфужен, чтобы ради себя будить спящего словом или холодной водой. Есть от чего конфузиться, ему положено быть радужным, крыльям - лазурными, малиновыми, сухими, а здесь он умеет быть только пепельным и стесняется, как гость, угодивший к кому-то на день рождения, а у него нет подарка, да еще и простужен.
Пришел. Чо он может нам сказать? Мы можем сказать ему, как нам с ним неловко, что его попытки подкрасить себя с помощью неловкой, чуть заискивающей улыбки нелепы, как окрашивание гвоздик в лиловый цвет. Такими гвоздиками обычно торгуют на углах странные вечные девушки из Галиции, гвоздики - бывшие красными, теперь лиловые - стоят в ведре, чернила вытекают из стеблей в воду; воду, уходя, выплеснут на тротуар, там появится лиловая лужа.
В этом углу Берлина продолжаются двадцатые годы, в заведении дантиста, похоже, рвут зубы без наркоза, кофе кипятят на спиртовках, перед началом сеансов в синема звонит звоночек, любой знакомый человек, конечно, жил здесь.
Все просто: в каждом из нас много людей или существ, каждое из которых делается, в свой черед, нами. Любой приличный человек обладает количеством себя, позволяющим ему быть дома всюду. Конечно, все мы жили здесь - ход через длинную подворотню, поворот во двор направо и на второй этаж дома, шатающегося от грохота железа на эстакаде.
У нас были костлявые руки и сухие лица, в юности мы собирались группками под эстакадами, опираясь спиной на их кирпичи, отчего научились воспринимать многое на ощупь; занимаясь же любовью в полуподвалах с окнами на улицу, пешеходам по колени, обнаруживали, что в этом акте - в силу тесной общности почти на виду у тех, кто идет мимо в тяжелых скрипящих ботинках, - не важно, кто на ком и кто кого добился, что, отмечу, опыт вовсе не тривиальный. Здесь жили все. На этих простынях лежали все, все смахивали со своих волос эту сажу и отмывали лица от копоти в дребезжащем тазу, подставленном под расхлябанную струю из пахнущего свинцом водопровода.
Из разных семечек растет разная трава, из разных точек земли лезут нефть, уголь, уран или просто вода. Из разных городов прет разная сила: где-то - кайф, где-то - деловитость, есть место, откуда выделяется большое все равно; то, что возникает здесь, висит в воздухе камнем, определяется словами "Дас ист", и ангелы здесь - желтокожи, с раскосыми глазами и пурпурной серебряной царапиной на лбу, к переносице, возникшей в результате ночных переделок.
И куда же мы пойдем теперь из своего полуподвала в полдесятого утра с недосыпом и лицом, которое не стало лучше, сполоснутое над раковиной? Куда мы подадимся всем парламентом наших существ - куда же, как не на другой берег расселины; то есть мы выйдем в дождь, пройдем подворотней, свернем налево, купим по дороге на углу у турка сигарет по дешевке, войдем на станцию с педерастической кликухой "Маркс-Энгельс-штрассе" и поедем без билета до Зоопарка, дребезжа над бездной сухими костями.
Мы увидим, как мы меняемся, проезжая над еще живым промежутком: редко, когда можешь заметить смену существ внутри себя - разве что в самолете, постоянно глядясь в зеркало, или так: проезжая мимо этих расположенных чуть ниже крыла поезда имперских зданий из чугунного мрамора на острове перед стеной, переваливаясь в зеленый Тиргартен, видишь, как лицо из пепельно-серого становится бежевым с красными прожилками, слегка желтеют волосы, не привычное к такой быстрой смене хозяина в себе тело чуть обмякает и устает, меняется даже одежда - куртка перестает топорщиться, а нож, глядя в лезвие которого мы видели себя, нас уже не видит, делается пластмассовым, прозрачным, и сквозь него проступает сломанная церковь. Это Цоо, перрон под колпаком из голубого с серыми прожилками переплета стекла.
Прозрачный, голубой, с прожилками грязи от чуть заметного жировоска отпечатков весенних теплых пальцев на стакане: да, ты к нему прикасался, ты это видишь.
Такая недавняя и медленно сползающая вниз, к горизонтальному основанию стакана твоя история; стакан стоит на горизонтальном столе, возле зеленых листьев за окном, рядом с какой-то птицей за окном, среди желто-розовых и белых деревьев за окном, внутри которых поет пернатая птица.
Мелкий дождик, наискосок по стеклу, задевает там отражение часов, очень белых, с тонкой черной стрелкой, тикающей ровно через пятнадцать секунд - редко, не спеша, куда им торопиться, а за окном поет желто-красная среди зелени птица, боящаяся быть запертой между отражением часов и стойкой кофейни, за окном которой разные зеленые ветви и желто-розовые кусты, где птица и поет, но не на международном птичьем - на немецком птичьем глюкая: дазист, дазист.
Среди мелкого дождичка, как среди нежной зелени, глюкает, жалобно, будто всякий звук падают ее отдельные крылья, как у однократных лимонниц, но, учитывая разницу между птицей и бабочкой, надо учесть многие сложные вещи, как-то: степень жесткости крыльев, стойкость окраски, горизонтальные прожилки летания вдоль улицы Курфюрстендамм, на что способны только птицы, а не бабочки, никакая из которых не простегнет Кудам насквозь, где уж - в гибком косом дожде.
В мелкой шапочке дождя, сплетенной из маленького конского хвоста с жемчужинками - речными - или капли в местах сплетения конских ниточек, узелков, чтобы в дождь выйти в шапочке на дождь, и он стекал бы строго по ней, от темечка по позвоночнику, вниз, затормаживаясь в разных местах тела жемчужинками, твердыми, будто окостенели.
Так что надо выйти под дождь среди всякого белого света вывесок и полуподземных электричек из подземелья, где всегда сухо и горят - сухо, холодно, вдоль - неоновые лампочки, сухо, напряженно, словно раз-два-три-раз-два-три, а дальше они не знают и могут только вообразить, что где-то там, далеко, есть сто, сто двадцать, сто двадцать пять и даже пятьсот, речка, распухшая от слез соленых, но уже так далеко, вползая наполовину в морской туман, клочьями, дерганый, где непонятно и пахнет не городскими вещами, а вязкой солью, сырым ультрамарином, мокрым кадмием, размокшей кошенилью, а остальное так - то ли в сумерках, то ли во влажном желании.
Там такая лежит мягкая касса с маленькими золотыми деньгами, не более чем с пупок размером каждая, и эти маленькие золотые денежки звякают, хнычут, просят погладить, - Боже мой, почему они плачут, кто сделал им больно? Они лежат плохо, их забыли, их путают с бутылочными крышками, на которые наступили ногой, золотые российские десятирублевки.
Здесь, на Курфюрстендамм, большие опытные деревья, с розовыми и белыми цветами, имеющие внутри себя птиц; здесь красивые гнутые двери с золотенькими номерами на стекле; дождь, мелкий, неопасный, не страшный для а) автобусов, б) автомобилей, в) кофеен, г) птиц, д) меня, и так до самых сумерек, когда со стен поедет краска и все таблички на стенах становятся указателями в убежище, где ветер с дождем не так уж и дует, и ждать там, пока не появятся черно-белые ночные бабочки, ночные черно-белые бабочки, но откуда им каждый раз знать, что пора появиться, сухо вылетев из-под навеса, косо-горизонтально, пачкая пыльцой лица шарахающихся пешеходов, испуганных, не понимая, что опять такое и что за колеса грохочут здесь, там, над Курфюрстендамм, над Курфюрстендамм и еще раз Курфюрстендамм - уже только для звука.
|