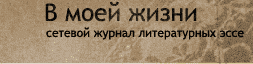Алкоголь в моей жизни / 22.01.2007
- Владислав Поляковский
Absinthe: меланома за пятнадцать минут
récitVienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeureApollinaire
Ниспровержение любой догмы, отрыв от любой традиции предполагает также отрыв и от первичного кода — языка и социальной нормы. Социальная норма, в таком случае, переходит в позицию дистанцируемого, дискрептивного явления, элемента и инструмента, к которому необходимо прменить, приложить некий феномен или критерий. Я хочу поговорить об одном таком феномене, элементе, так или иначе ставшем в какой-то момент времени определяющим для целого культурного пласта: имя ему — Абсент.
Уроки абсента
Две недели абсента и воздуха — сказал попутчик в курящем тамбуре. Легкое небо — но что отличает на самом деле небо от звездного света? Что из них более небо — само небо или свет, делающий его видимым?
Более того — что отличает женщину от языка и мужчину — от его слов? Одно из них — инструмент; другое — его человек, но что более человек — сам человек или его инструмент? В случае этого вопроса Бланшо был прав; возможно, даже стоит признать его и Патриса Шеро — хотя бы двоюродными — братьями. Мне кажется, что я становлюсь меланомой, меланомой внутренней, демонстрационным образцом сознания, пробной моделью, фотографией своего узора. Я тянусь слабыми пальцами и потягиваюсь сильным телом.
Слышишь, часы? Это часы; следует утвердить вполне привычный предметно-смысловой ряд — для упрощенного размышления: лишим объект функциональности через проведение иллюзорной метафоры. Скажем так — у часов нет стрелок, вместо них, допустим, — весла. Так понятнее? Функция есть, если ты так хочешь об этом знать, но она несущественна, нам вообще придется забыть о ней, если мы намереваемся продвинуться хоть немного вперед. Я отдаю себе отчет в том, что это тяжело; к сожалению, я не вижу иной возможности обессмыслить основу, а без этого приема (все же обойтись без «приема» как такового не удалось; что ж, это исключение, которое, в моем случае, должно подтвердить изящное небытие правила) вряд ли на данном этапе возможно признать частную правоту в ущерб краха иллюзорного (в своем правильном значении) сознания. Сознание массовое иллюзорно в том плане, что не существует, но является лишь симулякром своего существования; говоря красиво — оно лишь элемент частного сознания, несколько вышедший из-под контроля. Наша задача этот контроль восстановить.
Итак, часы. Мы отрешились от их «привычного» значения, и это наш первый шаг. Взамен, часы приобрели значение метафорическое, они стали лучом света в темном царстве. Что ж, нам предстоит оказаться в светлом царстве ясной мысли, метафора послужит нам как раз темным лучом, на который я собираюсь нанизать узор, о котором я буду говорить; любому узору нужен центральный шов, лишенный света. Впрочем, и это второй шаг, нам не следует рассуждать в модальности «света» и «тьмы»; их — нет. Ни света, ни тьмы, ни чистого плюса, ни чисто минуса (считай, категорий добра и зла), только чистая воля. Есть лишь: осознание, попытка, мысль, иллюзия и сам узор.
Узор абсента — меланома, я уже упомянул об этом, но это понятие не должно иметь никаких коннотаций для оперирования им, поэтому постараемся ограничиться словом «узор», мы еще в начале лестницы, по которой собираемся двигаться. Незачем, кстати, думать и о ступеньках и верхе-низе, задуматься стоит о движении и его совершенности.
Вполне возможно, что часы, которых идут вместо стрелок — весла — простые деревянные весла; ты слышишь их шум, их примитивный бой. Тогда, конечно, твой голос издалека все равно остается более — родным этим местам, чем я. Пускай, тебе плохо здесь; мне здесь — хорошо. Ничего — лишь более существенное название для этой дорожной истории, да и можно ли, проходя аллею с памятником в конце, остаться столь безучастным к происходящему, чтобы не осознать само присутствие сна как невидимой, но сопровождающей фигуры? Я думаю, вряд ли, и это одно из правил абсента.
Язык женщины является лишь производной ее самой, причем математически — это взаимный процесс, не членимый на субъекты и параметры. Если пара выкуриваемых тобой сигарет немного отклоняют твой тембр, то небо, разрезанное на вычерченные циркулем окружности, слоистые, как пирог, легко сможет вместить словесную начинку. Пожалуй, так и следует воспринимать жизнь — как хаотические круги с их внутребытовым наполнением. Плюс- метафоры: воздух, наполненный абсентом. В таком случае, явление Другого Левинаса и Жестокости Арто невосполнимо: точка оптики смещена на «над». Стоит допустить лишь позицию игры: и будет не так очевидно предположить, что и игра может быть двусторонней — игра в зрителя или игра в актера.
Язык женщины, как это ни каламбурно звучит, сосредоточен в ее языке, осязании. Касаясь языком, женщина дает возможность предмету или человеку существовать в ее восприятии. Эмпирическое касание — назывное, оно «называет», но не предусматривает возможности, оно энциклопедично. Физический контакт — вводит в плоскость узора меланомы, создает волны возможностей и вероятностей. Женщина касается тела языком, оставляя капельки слюны, тщательно облизывает — и в раковине возможности появляются слова для дальнейшего говорения. Не так важно, какова прогрессия волны распространения языка. Начатая во множестве точек одновременно, эстетически волна совершенна — как только может быть узор меланомы, ткущийся из разных точек. Соприкасаясь, различные ареалы языка обнаруживают лишь точки преломления контекстов, выбоины узора. С масштабной позиции это почти — незаметно; по сути своей, это неотъемлемый элемент программы, логического, иллюзорного языка.
Мужчина зависит от своих слов, обретая их при соприкосновении с женским языком. Мужчина абстрактен, его логика заставляет его иронически являться линией узора, тогда как женский язык (не будем делить это понятие) представляет собой лишь точку начала. Мужчина терпит фиаско в постели только в том случае, когда слова теряют реальный удельный вес — как валюта государства, необеспеченная золотым запасом. Письменная инфляция легко подлежит рассмотрению — достаточно открыть любой журнал или книгу, и мы непременно наткнемся на ее неоспоримые свидетельства. Орфей теряет нить времен; тогда как сексуальность, теряя в языке, теряет в эстетике. Первоначально кажущийся очевидным отказ от смысла приводит лишь к его появлению, уже «надличностному», выполняется некое подключение к узору. В то время как абсурдистское изыскание смысла приводит лишь к функции «крючка» или «вязальной спицы», выполняющей необходимые ошибки и стежки «назад» — что ж, они тем паче необходимы для построения правильного и эстетически совершенного узора — явление сродни противопоставлению конкуренции и монополии — в условиях эстетического гетто крючок совершает захват назад, уже пройденного стежка, с тем, чтобы начать новый шов — и это второе правило абсента.
Я думаю, что точка, обозначающая изгиб твоего горла, скрещивающаяся прямая, обозначающая волну твоей груди, заслуживают пера или аккордеона — чтобы музыкальная лестница поднималась до «соль» к твоему подбородку, чтобы потом резким «до» упасть вниз, к бедрам и полоске живота. Задуманный узор, пусть иные его части раскрыты уже бесконечное, пустое множество раз, должен иметь вполне законченную четырехмерную форму: для первого варианта этого будет вполне достаточно.
— Расскажи мне про дело. Что это такое? В чем — дело? Я не знаю, но не пускай меня туда, не превращай лишь в метод. Я просто пытаюсь вспомнить, что случилось в тот момент, когда маленькая мелодия совпала с витриной магазина. Когда, в отсутствие голоса, черно-белый цвет победил мое большое окно, когда в парке в первый день зацвели цветы. Я не знаю. Мужчина. Белый и ажурный парк. Женщина. Красивый воздух. Абсент. Ты помнишь?
Мужское слово, как производная линия женского языка, тем не менее, отнюдь не менее хаотично. Смысл существует помимо желания им обладать. Это, в свою очередь, означает бессмыслицу любой попытки осознания себя как части смысла — уже существующее не подлежит обдумыванию. Более того: живой смысл, поворот ходя крючка, может возникнуть лишь при отсутствии попытки его зафиксировать и уловить направление. Вяжущий узор человек не должен сосредотачиваться на технике вязания; вовсе наоборот: он должен быть уверен, что занимается чем угодно, только не составлением узора, только тогда узор и получается эстетически совершенным, внутри абсента.
Борис Виан, какая стройная мысль: «В жизни самое главное — подходить ко всему с априорными мнениями. В самом деле, оказывается, что массы ошибаются, а индивидуумы всегда правы. Нужно остерегаться выводить отсюда правила поведения: совсем не обязательно их формулировать, чтобы им следовать. Есть только две вещи: это всякого рода любовные дела с прелестными девушками и музыка Нового Орлеана или Дюка Эллингтона. Остальное должно исчезнуть, ибо остальное уродливо, и нижеследующие страницы повествования черпают всю свою силу из того факта, что история эта совершенно истинна, поскольку я ее выдумал от начала и до конца. Сама же ее материальная реализация состоит по сути дела в проецировании реальности — в перекошенной и разогретой атмосфере — на неровную и порождающую тем самым искривления поверхность. Самый что ни на есть благовидный подход, как видно».
Виан проецирует реальность на плоскость «узора», создает его искривление, тем самым — подтверждая его реальность. Но если узор реален, и возможно осознать факт проекции, то, как может быть возможен сам факт проецирования? Если диалектическая реальность исчезает при попытке осознанного ее использования, то — как же она все же используется для художественного замысла составления узора программы?
Узор есть меланома абсента, несмотря на то, что меланома не всегда являет собой узор; проблема силлогизма. «Любовные дела» имеют своим смыслом прямое или косвенное отвлечение от реализации замысла, тогда как абсурдность и выдуманность сюжета сообщает ему тот импульс реальности, который неизбежно потеряется и приведет к стойкому ощущение фальши, повторяемости и необязательности узора при попытке его сосредоточенного графопостроения и бытописания. Иными словами, само существование узора возможно только в модальности отсутствия даже идеи о его существовании или описании.
Чернильные розы и фиктивные язвы
Допустим, Катрин Роб-Грийе, вот она, наверно, точно «самая прекрасная женщина Франции» (как же Волчек не любит Катрин Брейя, к которой я применил этот термин в кавычках, очевидно, кавычки плохочитаемы); ей около семидесяти. Этическая гамма Арто, часы говорят «стоп», пол-шестнадцатого — так не говорят в России; сознаемся. Возможно, перелом; если что-то другое — то не надо об этом. Опрятный омлет за завтраком на веранде в гостинице... Сейчас — проще. Антиклерикализм, как символ, мифологема. Это пространство Орфея Бланшо (хотя, возможно, и этот факт, в случае его точности и бесспорности, сам по себе — симулякр — уж не иного симулякра ли?); в таком случае ее роль — область чистого искусство, раскрывающего ночь. Риторика Жанны де Берг и отвращение к литературе; прочь от смысла в поисках смысла, забыть значит начать быть. Все-таки еще пересмотрите «Последнее танго в Париже» Бертолуччи, обязательно.
Легко можно угадать черты некого исторической иронии: Аэлита и врата полов как способ преодоления одиночества разума. Увы; кризис фундаментальности, возможно, кроется в отсутствии улыбки. Невозможность допустить ошибку суждения, другую грань логики (другую — логику), ирреальность факта в иной плоскости — есть явное следствие повышенной серьезности. Что поделать, серьезность, как занятие само по себе нагруженное смыслами, противоречит искусству как изящному продолжению узора. Искусство — не меланома, не абсент; меланома абсента — сам факт письма, факт существования-существования. Ошибка здесь именно в признании факта — фактом. Точнее, это не ошибка; такой пассаж удобен для оперативного использования, но это не осознание и не сознание, но лишь имитация осознания и имитация сознания; иллюзия. Настоящее сознание находится в области, где не существует попыток. Попытки, впрочем, тоже нужны для системы узора — все это лишь вполне программируемые его элементы, предполагающие саморазвитие и самодостаточность. Каким бы ни был сбой — он не может быть сбоем узора, он лишь его часть, это заложено в самой природе «сбоя» — он лишь деталь, настоящей ошибки не существует как категории понятия. Неважно, имеется ли масштабный автор узора, подтверждается ли его факт.
Признать необходимо лишь отсутствие регулярных законов, регулярных правил развития ситуации в любой точке. Нет законов, нет правил, нет догмы. Признать необходимо существование любой логики — так как в любой точке узора не существует ни заданной орбиты, ни заданной оптики. Стало быть, они могут быть любыми, в случайном хаотическом порядке — даже абсолютно несовместимыми и взаимоисключающими, такова логика абсента и еще одно из его правил.
Это подрывает существование логики как оптики, но в этом кроется единственный ее шанс выжить: допущение равно любого количества приемов и не, не-выведение закономерностей и степеней сочетания. Женский язык, точка, породившая прямую мужского слова, может быть любой, может быть несущественной или несуществующей, а значит и прямые могут: совпадать, пересекаться под любым углом, скрещиваться или просто существовать в разных пространствах, не допуская, а точнее — не имея в виду — существования друг друга.
Такая эстетическая система — эротические узоры Брейя в «Анатомии Ада», при том, что Ад — это женщина, или, во всяком случае, очень похожее на нее по своей анатомии существо. Нет, не об этом; Брейя не говорит о «счастье» как о категории, в ее фильмах нет «счастливых» или «несчастных» женщин. Счастье выводится за пределы языка, остается только факт уже не «говорения», но «произнесения», произнесения протестного, балансирующего на гране эпатажного высказывания. Слова Брейя воссоздают эпитет «авторские»: т.е. частное переживание становиться частью куда более эстетически совершенной пластины, эпического узора. В этом плане эротика Катрин неэротична сама по себе, иными словами — эротична, если не придумана. А она не придумана, нет, скорее — является шагом в безупречной логике и ясности свободной мысли, свободного узора, который, при ближайшем рассмотрении, обращается сам в себя. Крайняя плоть укорененности в контекст: незаметность шага и линии. Любовь опять же — не категория понятия, это еще один трюизм; любовь лишь момент столкновения двух оптик, всегда двух, но никогда не — одной и второстепенной. Оптики, пересекаясь и налагаясь друг на друга, в итоге порождают новое пространство, не плоскость, но, если хотите, четырехмерный куб (возможно, наиболее точный момент?) — опять Бланшо: доверяются не слова, но скрывающийся в них голос. Значит холодная логика пространства куда более эмоциональна и жива, чем его субъект.
Абсент за пятнадцать минут
Ты не стоишь перед необходимостью выбора, но обладаешь потенциальной возможностью. Поскольку положение вещей не меняется, естественным будет ее использовать — в таком случае будут открыты оба возможных варианта; в противном — один из них остается «априори» потенциальным, не-кинетическим, а значит — являющимся уже другим элементом, невозможным. Поэтому всегда существует возможность превратить возможность в невозможность.
Если сон — это нервы, я вполне вправе отвергнуть вариант. Если категория «любви» являет собой лишь состояние уникального бреда, единственного возможного случая пересечения двух параллельных прямых, то при этом пересекается множество контекстов, вовсе не параллельных, порождая при этом, как я уже говорил, новое пространство. Левинас говорит про Другого — я встречаю его, превращаю его в Письмо; Жене вполне доволен, взрывы смеха со стороны Батая; оба пьют абсент. Письмо — Я; никто больше. Другой — пустая бутылка, вероятно, из-под абсента, ждущая наполнения изначальной инерцией письма, авторства, это создает направление движения. Я — Письмо, мне хорошо; черный грунт и асфальт, я выхожу из метро, я — свой Страх и свое Желание внутри себя. Я несу свой страх и свою жестокость, свой порок и свой ум приблизительно до перекрестка, затем — выпускаю его, и Другой его уносит. Я должен нести свое Желание, пока не дойду до Тебя; особенность обстоятельства — в Тебе, особенность места и времени во мне. Так — Желание. Донесенное, оно почти закипает, но и тогда оно не должно сразу пролиться, Удовольствие возможно только при правильном пересечении. Этот бред и сон, способный вызвать тошноту и радость, боль или безразличие у — Другого; но линии пересекаются, белые начинают и — играют. Скрещиваются — входя одно в другое, две линии образуют точку, приближающуюся к центру узора, в котором Желание, достигая своего предела, превращается в Особенность, как я уже сказал — это форма бреда и безразличия, позволяющая выйти за пределы плоскости, как две оранжевые и серые линии, — в приблизительном представлении — закон перехода энергии и спонтанного жизневыделения.
Лекция в неизвестном французском университете из фильма «L'enfer» (лектор затем погибнет в автокатастрофе), сценарий покойного Кислевского; — понятие «судьба» необходимо как объяснение непрограммируемого элемента или — как оправдание ошибки в узоре. Использование точек рока, условных божеств (можно подставить любую мифологему) добавляет элемент сложности и изысканного интеллекта в проектирование узора картины. Рационалисты, объявив победу логики, встали перед дилеммой — чем заменить ставший необходимым элемент? А — судьба не могла уложиться в логический механизм чертежа. Поэтому, было придумано сходное понятие — «случайность, совпадение». Проблема в том, что в эстетическом плане — судьба куда совершеннее любого совпадения. Выполнив небольшое подключение к мифу, можно подставить два понятия в одинаковые архетипы. Что мы увидим? Абсент? Меланому? Сам узор программы? Скажем, «смерть» с элементом «совпадения» выглядит просто глупой — никакой эстетической характеристики здесь просто нет. В то время, как «смерть» с элементом «судьбы» дает следующий этап или, по крайней мере, уже его набросок — возможность почувствовать себя частью чего-то большего и более важного, увеличить масштаб рисунка.
Дай! На. Держи. Скажи мне, пожалуйста. Я хочу — сказать, пренебрежительный Флобераллос литературы. У Флобера его «огромный фалл, которым его пялят» лишен сексуальности, это обычный прием: понятие нарочито, и своим вопросительным утверждением вызывает логическое отрицание. Следующий шаг: «ему не удается кончить». Здесь проблема в ощущении «нефункциональности», обессмысливания, о чем я уже сказал в самом начале. Импульс смысла, возможно, находится уже в другой сфере; поэтому старая, выступая как фетиш, уже сама становится метафоричной, иными словами — «совпадением» задуманного узора, но не его судьбой.
Ты кричишь. Нет, просто рабочие в оранжевых комбинезонах жгут тополиный пух — он залетает в окно (хочется — в кино). Медленное молчание прозы ускоряется, когда весло достигает шестнадцати, красивый округ, тонкая полоска кожи между холстом одежды — но что более холст, одежда или то, что она — она? — должна открывать?
Моя кисть касается бледного цвета, оставляя узор, который могут составить плывущие по воде утята или растекающийся абсент. Другой удаляется за бессмысленностью вежливости, доведенной до абсурда. В таком случае, я ставлю — точку, в том плане, что не существует никаких аберраций нормы; нет никаких, сколь-либо представимых общностей в этой сущности. Все обобщающие законы — как широкие штаны с множеством карманов; их красоты и завершенность — в удобстве. В остальном, программа «абсент» являет собой бесконечное количество случайностей, пересечения контекстов, не поддающихся логическому программированию или прогностике. Поэтому в каждом конкретном случае — кисть — оставляет новый первый штрих, новую клетку меланомы, новый штрих узора этого боди-арта («бодриярта»?), который я выполняю на твоем обнаженном теле.