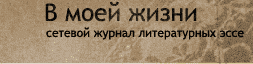Алкоголь в моей жизни / 22.01.2007
- Лиля Панн
Воспоминания под алкогольный «Романс» Володи ГандельсманаАх, как уютно,
ах, как спиваться уютно.
Тихо спиваться, совсем без скандала.
Нет, не прилюдно,
нет, ни за что не прилюдно.
Истина, вот я! Что, милая, не ожидала?У Венедикта Ерофеева трагедию «Вальпургиева ночь, или «Шаги командора"» я люблю больше «Москвы—Петушков». Вернее, «Петушки» с Веничкой люблю, а «Вальпургиеву» с Гуревичем обожаю.
«Напились лимонаду евреи и шумят», — в шестилетнем возрасте услышала я в домашнем праздничном застолье, и мне впервые стало неловко за товарищей по несчастью. Только через десятилетия этак полтора я избавилась от комплекса неполноценности: мои друзья-евреи пили и перепивали друзей-русских.
Юдофил Венедикт Ерофеев воздвиг евреям памятник нерукотворный — упоительный образ Льва Гуревича. До этого еврея в русской литературе еврея не было.
Выпить с породившим Гуревича мне посчастливилось впервые в ноябре 1987-го за столом его квартирки на Флотской, куда привела меня судьба в лице моей кузины Натальи. У неё с Веней непостижимым образом случилась любовь, настоящая любовь, мне это сразу было видно. А я пришла с просьбой к Ерофееву от нью-йоркского эмигрантского издательства «Серебряный век» — откликнуться на только что полученную Бродским «нобелевку».
Пили совсем умеренно и что-то очень качественное (купленное мной в гостинице «Россия», где я остановилась с группой американских туристов — только так без особых хлопот можно было приехать эмигранту в начале перестройки). Подъехал Евгений Рейн, старинный приятель Натальи, а мой и Ерофеева — новоиспеченный. Водка быстро кончилась, и Рейн предложил мне с ним сгонять в «Березку», на такси, конечно. В «Березке» произошло то, что, оказывается, по словам моего старого дяди, в старое время называлось «раскрутить буржуа». Обиды никакой, больно смешно. По дороге Рейн дал мне сведения, очень скоро пригодившиеся: с алкоголем в перестроечной Москве трудности, особенно поздним вечером, но есть выход: таксомоторный парк.
Потом Рейн читал километрами стихи, и они хорошо шли. Вене многое понравилось, а мне, помнится, всё. Я — бездарный фотограф, но в тот день нащелкала целую пленку настоящих шедевров. Ерофеев с Натальей слушают стихи Рейна.
Веничкино трепещущее какое-то немногословие (он недавно перенес первую операцию рака горла и говорил с помощью аппарата), улыбчивость и, главное, невиданный eye contact потрясали не меньше громкокипящего кубка рейновской поэзии. Зашел разговор, что Ерофеев всё никак не закончит пьесу «Фанни Каплан» (медленно, но верно подступала слава, обкладывала со всех сторон, мы убивали его вместе с раком, мы убивали писателя, рак — человека), и я спросила: «А герои, как и в «Вальпургиевой ночи», тоже все погибнут?».
«Я всегда... их всех... убиваю», — звякнул машинный, космический голос. И —улыбка, кротко веселая, противоироническая.Ах, покосится,
ах, этот мир покосится.
Что там синеет, окно наряжая?
Что-то из ситца,
что-то такое из ситца.
Небо — от Бога. Я вместе их воображаю.За откликом на «нобелевку» я пришла через два дня, вечером, одна и потому с интеллигентным подношением — бутылкой рислинга. Сколько там градусов? На столе стояла полная миска маленьких домашних пирожков. «Вот сестра напекла, лопай, я их уже много слопал». Румяные пирожки как-то умиротворяли душераздирающий однобутылочный рислинговый пейзаж.
Уговорить бутылку труда не составило. Бесподобные синие глаза Венедикта смотрели вроде бы презрительно. Я вскочила из-за стола: «Скоро вернусь, я знаю, где можно достать». — «Только не этой чепухи». — «Само собой».
Уже совсем поздно, около одиннадцати, дрянная погода, мокрый снег, лужи разливанные, в кои нога моя уже одиннадцать лет как не вступала. Совсем чужой мне район «Речного воказала». Такси, слава богу, быстро поймала, и таксомоторный парк оказался не так уж далеко. Ждать таксист меня не захотел, да я и не упрашивала: если не водки, то такси-то в таксомоторном парке я найду. Оказалось, наоборот.
Дальше помню: тьма, круг света от фонаря, я, естественно, в центре, а по окружности — таксисты, надо полагать. Неприветливые, скалящиеся. На американцев не похожи. Главное, мне не показывать свой страх, а он нарастает: вернуться нежданно-негаданно в Москву, найти всех близких в полном порядке, умопомрачительно веселиться уже неделю, даже с Веничкой познакомиться и вот напоследок из-за него быть изувеченной... Рислинг, возможно, придавал мне какие-то градусы смелости, просьбу я изложила непринужденным тоном. Кто-то тут же протянул бутылку. «А не обманываете?» (Приятель раньше просветил насчет водопроводной воды.) — «А ты попробуй!» — «А как?» — «А ты открой!» — «Как?» — «А как сможешь!» — «Не, так не возьму». Открыли-таки, спиртным несет, ура. Расплатилась (цена божеская), но везти обратно никто не захотел. У всех конец смены. Заказать такси по телефону якобы не могут. Побрела обратно по щиколотку (буквально) в воде. И — такси нагоняет довольно скоро, раньше они шутили.
Веня протянул мне свой отзыв на «нобелевку»: «А я тем временем закончил это дело». Открыл бутылку. Выпили по рюмке. Крепко и мерзко, но после той мокрети в самый раз. Веня смотрит на меня недоуменно: «Клянусь, такой гнусности я никогда не пил». Не то чтобы я вспомнила метилоспиртовый финал «Вальпургиевой ночи» — до литературы ли?! — так или иначе схватила бутылку, подбежала к раковине и стала выливать. «Стой, сука...» — взмахнул хозяин пустой бутылкой от «Рислинга» над моей головой. Не ударил.Взоры возвысьте,
до небыванья возвысьте!
Легкие, мы забрели в эти выси
не из корысти,
как птичьи не из корысти
тельца пульсируют, птичьи, и рыбьи, и лисьи.Ровно через два года я снова была в Москве. Наталья взяла меня на дачу в Абрамцево, где Веня жил после второй операции. Медленно, но верно он двигался к смерти.
Студенческий театр МГУ только что поставил «Вальпургиеву ночь», лихо получилось, спектакль понравился автору. «На шестибальной шкале я даю ему что-то в районе 5.7» — в ответ на мои восторги. Вернувшись в Нью-Йорк, я написала первую в своей жизни рецензию (напечатанную в местной эмигратской газете и московским «Театральным курьером»). Называлась рецензия: «Весёлая трагедия в театре МГУ». Скоро я потеряла работу и к своей профессии больше не возращалась, увлеклась литературной журналистикой и пр. Так что в начале мой новой жизни был алкоголь.