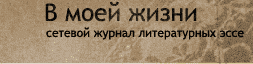Кино в моей жизни / 31.10.2006
- Андрей Тавров
ПрорывКогда пленка тормозила и останавливалась, на самодельном экране, произошедшем из сморщенной с одного угла простыни, похожей на веерную внутренность гофрированной ракушечной створки, на самой его середине начинал закипать чайного цвета драгоценный нарыв. Сначала он напоминал крошечного червячка, поселившегося на молочном разрезе яблока, но тут же следовала метаморфоза, раздувавшая вредителя в пузырящуюся кляксу. Изображение расступалось под ее натиском, как трава на поле вокруг земляного холмика, поднятого из преисподней незрячим кротом, и время, продергиваясь, как сама пленка, останавливалось, а потом шло не то чтобы назад, а сразу в четыре стороны, словно известие о самоубийстве друга, и, повторяя его расширяющуюся в невидимом воздухе траекторию, на млечном теле ракушки — плече ли, морской равнине? — расступалась ослепительно прогоревшая дыра, и в воздухе пахло паленой кинопленкой, произведенной в недрах шосткинского кинокомбината.
Плечо богини — вздувшийся на нем нарыв — световая дыра иной реальности. Три стадии превращения, три такта — вдох, выдох, пауза, — в которые долгое время встраивалась любая киноистория, сквозь эту самую дырку из света имеющая тенденцию вытечь в жизнь, пропитать насквозь занавес шелковый, занавес железный, зажечь золотой искрой темный глаз.
Кино было эротично, и в воздухе летали светляки. Там мы курили первые наши сигареты без фильтра, и рука, немея, кралась к загорелому и еще соленому плечу подруги, с которой утром ныряли вместе к шевелящемуся водорослями солнечному дну, и тело тринадцатилетней Офелии под водой не портил даже лягушачий закрытый купальник производства советской легкой промышленности 60-х.
Давайте поговорим об эротике, — как семирукий великан вставал в прокуренном до звезд южном воздухе и, шаря своими бескостными щупальцами по подсвеченному воздуху с перламутром экрана, манипулировал на весу задрапированными в мягкий мрамор женскими статуями, золотой сережкой, вынутой из уха юркиной сестры, подводной лодкой «Пионер», похожей на сигару, и полипообразными призрачно-органическими объектами, в которых угадывался то золотой висок матери, то слезающая со спины от ожогов кожа, то декольте развратной иностранки, которое одновременно было и клешней краба.
Обнаженные тела отсутствовали. На пляже они не прочитывались, а в быту были вделаны в ту самую броненосную клешню, о внутренностях которой думать не было необходимости, потому что кто же, смотря на то, как он, краб, бежит по небу, по дну в окружении сияющего нимба на шести цыпочках, будто балерина, вставшая, игнорируя время, сразу в три позиции, — кто же будет думать, созерцая это извращенное изящество, только что вынутое у меня из-под зависшего над клавишей ногтя, о вовсе, может быть, и не бывшем облаке наготы.
Облако это, однако, временами сгущалось и выпадало на экран снегом, нет-нет да и мелькая с его калейдоскопического лабиринта, вытянутого в расстояние, равное двум световым во тьме часам, голой спиной Бабетты или взволнованной и полуобнаженной грудью Милен Демонжо.
Это определило наше отношение к женщине — целомудренно-опасливое и затаенно-неистовое на всю остальную жизнь. Весь оставшийся секс был путешествием на край раковины и мрамора в непристойных поисках зазеркальных мистерий и миражей, которые разглядеть все равно никогда и никому из нас не удавалось, потому что как раз в этот самый волнующий момент на изображение находило слепое пятно, и там, где Байрон видел однажды глаза вместо сосков, начинало возмущенно пучиться закипающее пятно, а потом, словно исход новой вселенной, взрывалась световая дыра, и пленка останавливалась, а время шло сразу в четыре стороны, как известие о самоубийстве друга.
Нагота, благодаря этому, всегда грозила световой прорванностью, и поэтому дальнейшие рассуждения Флоренского о наготе Евы, окруженной световой складчатой аурой, прочитывались как дежавю. Всегда казалось, что та, кто «покоится стыдливо в красе божественной своей», может выйти из этого одеяния, оставив сияющее непонятным светом прогоревшее отверстие.
И еще — большинство пленки сгорало. Целлулоидные квадратики же демонстрировали разбираемого движением человека, как это происходит на рисунках да Винчи, изображающих поэтапный полет коршуна. Это говорило о том, что из всей сложности и дряни мира себя можно будет, в конце концов, все же собрать в один непрерывный образ, мерцающий на экране. Неважно, что ты, быть может, так и не узнаешь того, кто предстанет перед тобой в результате всей этой экзистенциальной процедуры, — важно, что ты, как уключину, нашел точку сборки и сделал гребок.
Оно было похоже на серый пиджак и было не менее жизни, которую он порой одевал и грел. Глубина его была сравнима с райской.
Я понял, что кино обречено, еще в 70-е. В нем было слишком много техники, железных вещей, которые производятся на станках.
...Но пока что на экране поет Рафаэль, мы с приятелем сидим на ступеньках амфитеатра, и я пью сладкий портвейн прямо из горлышка. Через минуту я сбегу вниз и, пойдя лунной сосновой рощей, закутанной в целлофановую тишину, выйду на асфальтовый в гуталиновых трещинах спуск к санаторию и встречусь с двойником архангела Гавриила. Она будет говорить на немецком, через неделю мы расстанемся навсегда, а еще через три года оборвется переписка. Ее лицо было самым красивым из всех и напоминало мадонн Боттичелли. Скорее всего, ее убили наркотики. Там, где мы так и не стали любовниками, в южном сарайчике друга-музыканта, сияет теперь световой прорыв. С каждым годом он набирает силу, как ветер, и паруса потрескивают. С кино начинается любая метаморфоза, превращающая экран в магический оникс, и, чтобы убедиться в справедливости этой фразы, достаточно прочитать два первых ее слова не одно за другим, а задом наперед.