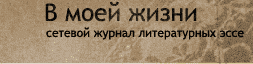Кошки в моей жизни / 21.06.2006
- Некод Зингер
Киса Воробьянинова и другие кошачьиПредставители семейства кошачьих всерьез вошли в мою жизнь довольно поздно, когда в девятилетнем возрасте я притащил с улицы кем-то обиженную Кису. Это милейшее существо, один раз попав в квартиру, наотрез отказывалось выйти наружу, и всякая попытка вынести ее во двор погулять заканчивалась для хозяина расцарапанными в кровь руками и грудью, в которую испуганная кошечка вцеплялась, как в единственный источник жизни. Не имея морального и физического мужества исполнять роль Кибелы, я навсегда отказался от попыток привить Кисе любовь к свежему воздуху.
К тому времени, истощив свою нервную систему чтением Эдгара По, Гоголя и тибетских сказок о волшебном мертвеце, наш герой подвергался частым наплывам необъяснимого мистического ужаса, к ночи достигавшего своего пика. За окном детской спаленки зловеще мигал красным неоном кинотеатр «Маяковский», стремясь подсмотреть, как умирают дети за сквером, где харкает туберкулез. На потолке гонялись одна эа другой долговязые тени. Старые вещи скрипели по собственной злой воле, и в батареях отопления иногда протяжно стонала душа исчезнувшей из гроба ведьмы, учительницы пения и попадьи Ады Ивановны. Ох, попади ты ко мне в могилку, дружочек, ох попади, чево-о-о боиссссссь, поди ко мне, поди-у-и-у-и. И в этот момент, когда не было уже сил оставаться в постели, вцепившись в одеяло и обливаясь холодным потом, и, казалось, — еще секунда — и толстый, девятилетний, взрослый, разумный мальчик с дикими воплями кинется искать спасения у людей, которые приблизились к смерти уже вплотную и не боятся, и сейчас пьют с нею чай на кухне, где лампочка, где свет, в самый последний миг Киса открывает дверь и беззвучно идет к постели...
Можете подавиться, Николай Васильевич, вашими галушками, поцелуйте мистера По в правое полупопие! Ночная кошечка приносит не страх, но избавление от него, она теплая, она урчит.
Через несколько лет, нося гордое звание юнната, я сошелся в новосибирском зоопарке с кошечками покрупнее. Наиболее мизантропически настроенного старого снежного барса с отхваченной капканом передней кистью звали Чингиз. Впрочем, сколько его ни звали, он не отзывался, и это легко было понять. Фиалка и Флора были юны, прекрасны и загадочны. Одной из неразрешимых загадок так навсегда и остались их ботанические имена, с которыми они прибыли с Памира в город на Оби. В обеих чаровницах было что-то необъяснимо наглое, хотя двигались они медленно и грациозно и никогда не проявляли агрессивности. Впервые оставшись с ними с глазу на глаз, два дружка-юнната решили немедленно проверить на практике весьма распространенную теорию о том, что хищники очень боятся грозного человеческого взгляда. Мой напарник Вакоч начал гипнотизировать Флору, а я уставился немигающим взглядом на Фиалку. Оба экспериментатора при этом находились на приличном расстоянии от подопытных кошек, отделенные от них барьером и решеткой. Фиалка около минуты спокойно смотрела своими бесстыдными лимонными глазами прямо в начинавшие слезиться от напряжения оченьки укротителя, после чего широко зевнула, совершенно смутив его.
— Мал я еще, — подумал юннат Зингер. — Женщине в глаза смотреть... я не боюсь, я стесняюсь...
В этот момент взгляд мой упал на Вакоча, который, выпучив глаза и сдвинув брови, находился, похоже, в состоянии транса и больше всего напоминал какое-нибудь дальневосточное божество глупости. Я, чьи нервы были напряжены до предела, просто завыл от смеха и повис на барьере.
Каракалов — пустынных рысей — мы уже не гипнотизировали. Ни в тот день, ни впоследствии. Фиалка и Флора, не будучи дикими, так никогда и не стали ручными, навсегда сохранив в глазах окружающих свою энигму.
Впрочем, наши прямые обязанности состояли в кормлении больших кошек, а отнюдь не в их укрощении. Я развозил на тележке плоские широкие миски с витаминной молочно-яичной смесью, которые не без предосторожностей водворялись в клетки. Для этой тонкой операции использовалась специальная железная прилада, наподобие лопаточки рулеточного крупье, посредством которой миска вдвигалась в пределы кошачьих владений, сохраняя руки питающего в относительной безопасности.
Львы с различной степенью достоверности исполняли роль великих и ужасных звериных царей. Самый старый носил, подобно эсминцу, имя Счастливый, ибо один из всего помета выжил во младенчестве, был искусственно выкормлен козьим молоком и продолжал влачить существование, сбившись со счета лет и отпрысков чресл своих, зависнув в безвременье зимнего сада. Это сенильное существо, потерявшее зрение и большую часть зубов, всех пережившее, все забывшее, не забывало только об одном — о поддержании своего карнавального образа. Три-четыре раза в день Счастливый рычал. Юннат Зингер, недоумевая, пытался понять — к чему все это, что заставляет дряхлое животное напрягать слабеющие голосовые связки, оглашая окрестности раскатами неподдельного грома, от которого в ближайших к зоопарку домах дрожали стекла. Ведь трудно предположить, — думал он, — что прикинувшийся царем подает таким образом сигнал к штурму собственного зимнего дворца, пока его молодая, полная сил супруга Аврора дремлет на вечном приколе, а временные олени, бараны и кабаны жмутся к яслям, опасаясь, что их время кончилось. Вопрос этот мучил юнната очень долго, и ответ пришел внезапно, подобно молнии озарив таившиеся во мраке львиной психики тайны. Гостя в городе Святого Камня, юный натурфилософ отправился рисовать гипсовые подобия античных статуй в гробнице академии усопших художеств и, натолкнувшись в одном из закутков на бюст Зевса Отриколи, внезапно прозрел в отливке с римской копии греческого оригинала маску, навечно слившуюся с костлявой фигурой Счастливого. Перед юннатом была знакомая физиономия с развесистой гривой, переходящей в бороду, с мясистым носом и незрячими глазами, мужественно обращенными из-под тяжелых надбровных дуг ко внешнему миру. Старый лев разыгрывал из себя античного громовержца, производившего на гераклов прошедших эпох куда более внушительное впечатление, чем дикие кошки.
Аврора, жаждавшая не трепета, но любви, миметировала под буланую кисоньку, по рассеянности не переставшую вовремя расти. Авроре можно было почесать шею или погладить лапу, не слишком рискуя остаться калекой. Она была единственной встреченной мною львицей, которая обожала сворачиваться клубочком и даже пыталась урчать, что, впрочем, не вполне ей удавалось, и производимые ею благостные звуки можно было скорее назвать сопением.
Человеки также нередко косят подо львов, присваивая себе львиные имена, культивируя волосяные приборы и обзаводясь титулами, если и не монаршими, то хотя бы графскими. Наиболее сильное впечатление на юнната Зингера произвел в те далекие времена некий умник, попавший в соседнюю всемирную историю под именем Льва Африканского, в результате чего его надгробный литпамятник был украшен точно такой же табличкой, что и клетка Счастливого.
Эдвин с пробивающейся гривкой и совсем юный Цезарь в то время еще не научились изображать из себя ничего кроме того, чем в действительности являлись, так что всяк мог немедленно сообразить, что перед ним находятся типичнейшие львята. Это были бесхитростные существа, воспринимавшие карнавал жизни попросту как мясоед и в полном соответствии с прямым значением этого слова стремившиеся запихнуть в себя как можно больше дефицитного продукта. Мясо кискам выдавали старшие товарищи. Юннатам это красное золото не доверяли. Напротив зоопарка, в крытом павильоне колхозного рынка, товар гораздо худшего качества предлагался омраченным заботой домохозяйкам по цене, в тяжелые дни достигавшей пяти омытых кровавым потом рублей за кило. Не удивительно, что зрелище львов, тигров и прочих праздных хищников, слизывающих своими большими, шершавыми, как наждак, языками огромные порции народной мечты, вызывало живую реакцию посетителей.
— Это им откуда же мясо берут? — недоумевала одна дама. — Ведь не с рынка же! Никак из Москвы привозят...
— По-моему, это — позор! Просто волосы дыбом становятся! Их надо заснять в «Фитиль», чтобы все видели, куда наши продукты спускают! — возмущалась приличного вида пенсионерка. — Всё псу под хвост, во Вьетнам, на Кубу или зверью поганому! А я сорок пять лет спину гнула, чтобы теперь морковными котлетами внуков кормить!
— Та не журыс, гражданочка! — успокаивал ее дошлый мужичонка в барашковой шапке. — Це ж не корова, тай не свыння. Воны, казав мине зять, верблюдoу на це дило пускають.
Граждане, естественно, не могли принимать участия в трапезе не знающих забот обитателей райского сада, в отличие от писклявой птичьей шпаны, слетавшейся со всего района обедать у зверей. Синицы, нуждающиеся зимой в скоромном, не очень опасались царского гнева, сновали в львиных клетках, отщипывая от кусков мяса свои крохи. И пташки Божьи получали свое, и львенок Цезарь не лишался монаршей доли.
Были еще обыкновенные сибирские рыси, уссурийские тигры, любившие жевать свежий снег, черная Багира с половиной хвоста и ягуар, до моего появления носивший постыдное имя Кабанчик, но немедленно переименованный мною в Яго.
Прошли годы. Сегодня меня окружают сотни, а быть может, и тысячи иерусалимских кошек, портящих наши виноградники, пугающих собак и услаждающих слух жителей благословенного города рвущими душу ночными серенадами. Но это уже совсем другая жизнь, и писать о ней предстоит другому автору.