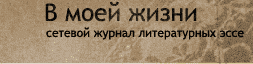зима в моей жизни / 24.02.2006
- Некод Зингер
Зимняя сказкаЭх, было время, говорят, в древнем Городе на Оби! И солнце всходило, и радуга цвела, красила нежным цветом стены Центрального горисполкома, выплескивала свои незамутненные скепсисом чистые цвета, принесенные свежим ветром с полей Хорезма, на лотки колхозного рынка, на клумбы Первомайского сквера, орлило днeвное светило над миром в сером храме оперы и балета, пели птицы, сдобно улыбались сибирячки, подпевая пернатым друзьям, мол, один раз в год сады цветут, припекало пионеров с пионами, ойф дер припечек, пылали закаты, сияли жарки-огоньки в перелесках, все было когда-то. Но студеные вихри враждебной пропаганды ли, заговор ли челюскинцев, поди разберись — только занесло все белым снегом наглухо, сковало льдами застойными, вернулось великое оледенение, тихая, холодная война. Зима в городе новой Сибири круглый год, и никуда ты не денешься — весь мир под снегом, Дания — тюрьма, у их, слышь, снежная королева всем заправляет, Ебипет — город мертвых, наши в турпоездке видали, жуть. У нас хоть тихо, как в сугробе, слава те, осподи.
Уделом жителей миллионного города стала зимняя спячка. В природе в это состояние обычно впадают подкормившиеся с осени бурые медведи, но тогда речь идет уже о полной отключке с залезанием в берлогу и понижением температуры тела. От таких крайних мер горожане по большей части отказывались. Даже нагуляв достаточное на двух топтыгиных количество жира, они не решались занять пассивную позицию и ждать милостей от природы. Но, сохраняя внешнюю подвижность, они пребывали в состоянии приятной, непреходящей, как сама зима, полудремы, перенося спячку на ногах. В отличи е от австралийцев далекого прошлого, живших в сновидениях, эти удивительные люди всегда грезили, бодрствуя, сдавая нормы ГТО и соревнуясь на телеконкурсах спортивных семей — кто быстрей и кто сильней, собирая в цехах телевизоры «Изумруд», за что люди ценили их труд, производя несметные киловатты электроэнергии и борясь с бюрократической волокитой, решая проблемы воспитания, лечения и питания и украшая Затулинский жилмассив, чтоб стал он зелен и красив. Легко заметить различие между сновидением и грезой. Первое, свойственное австралопитекам и медведям, является почти полным эквивалентом художественного кинофильма с сюжетом, доступным пересказу. Вторая же предполагает полную размытость границ и представлений и характеризуется убежденностью грезящего в твердости его двуногой позиции.
Да и сам я, вопреки изменившейся географической парадигме своего бытия, не предаюсь ли доныне по врожденной привычке кисло-сладким грезам о потерянном времени в компании бородатых мальчиков и лысеющих девочек?Однажды в студеную зимнюю среду я из дому вышел.
Всю ночь шел снег, начавшийся еще с вечера, но не со вторника, а, кажется, за несколько дней до этого, или, если мне не изменяет память, метель продолжалась уже не один месяц и год. Так или иначе, снегопад не прекращался и в то утро. Снег был и сверху, и снизу. Сугробы прямо от двери норовили поглотить всякое живое существо, пытающееся проложить себе путь среди этих полярных дюн. Дворник Илья Ильич, упираясь всем телом в огромное скребло, пытался сдвинуть снежную гору, и ругательная, плохо артикулированная речь его тонула в мягкой, сотканной из пуха и воздуха среде.
Ларочка Алиева, проживавшая со мной в одном подъезде, утонула, сделав четыре шага. Мысленно призывая псов святого Бернара, я с неимоверными усилиями вытащил ее верхнюю часть на поверхность и уже собирался приступить к искусственному дыханию, когда инженер Алиев, отец обморочной, высунулся из дверей и, бормоча что-то о мокрых ногах, о тяжелом воспалении легких, потянул свое чадо в подъезд, осуждающе глядя на меня белыми, залепленными снегом очками. Что за чудо эти снежные сибирские зимы, эти стылые молочные кисели, обволакивающие индивидуума и общество белым броуновским движением своих частиц! За околицей снег принял меня в свои объятья, поглотив только что находившийся тут, буквально в нескольких шагах, отчий дом о пяти этажах. Вот солдаты проплыли брассом, погруженные по плечи в зыбучую манную кашу, лиц не разглядеть, ушанки на носы надвинуты. Плывут корабли снежной пустыни — привет мальчишу! Дедушка Мороз тихим ангелом пролетел на своей тачанке, запряженной снежными барсами. По замерзшей январской реке, где-то у воображаемого млечного горизонта, качал головою белый медведь в штанах, поторяя: «Белу Оризонти — город моей мечты». Я брел в полусне, по бездорожью, с белой маской незрячего педантичного божества на неоформившемся детском лице, с белой сыпучей бородой, с белым горбом занесенного метелью ранца за спиной.
Мир, распавшийся на молекулы восстановленного молока, кружился со всех сторон. Призрачное свечение тонущих в мареве фонарей обозначило млечный путь Советской улицы. Белая фигура возникла из небытия, сослепу уткнувшись в меня огромной сахарной головой. Ездра-книжник!
— Уроков не будет! — сообщает он. — До пятого класса. Фколу занесло.
— Ты домой?
— Не-а, — Ездра расплывается в блаженной улыбке. — У меня тридцать копеек законных на завтрак. Я морофеное есть пойду! Пофли вместе!
— Какое сейчас мороженое!
— Я тебе говорю! У фонтана всегда продают. Пофли!
— Нам бы твой железный организм! Смотри, не превратись в Снегурочку!
Мы разбрелись в разные стороны, мгновенно потеряв друг друга из вида. Направо за угол вползла снегоуборочная машина, и я машинально последовал за ней, на ходу соображая, что двигаюсь в направлении кинотеатра «Пионер», что у меня в кармане двадцать копеек, что детский билет стоит только десять, что первый сеанс всегда в девять, а мне, кажется, одиннадцать лет, то есть — я могу купить два билета и на законных основаниях отсидеть два сеанса, прежде чем надо будет возвращаться домой.Я вваливаюсь в широкие сени кинематографа, отчаянно отряхиваясь и топая валенками. Над кассой расписание: в девять и в десять тридцать — «Джунгли» (Англия, 1943). Непередаваемая радость охватывает меня — радость узнавания. Через какие-нибудь двадцать минут в маленьком зале стемнеет, и на экране в теплом красноватом свете, таком верном, появится старая книга в бордовом переплете, трогательная дарственная надпись от союзников-англичан советскому народу, на исцарапанной временем пленке возникнут из тропического марева слоны, с одного из которых спустится молодая красивая леди, чтобы послушать захватывающий рассказ о мальчике-волке. Касса уже открыта, и я протягиваю в окошечко свои двадцать копеек.
— Повезло тебе, паренечек, — говорит кассирша. — Уже думали сеанец отменить. Снег такой кругом... откуда зрителя взять? Скажи спасибо солдатикам — если б не ихний культпоход, не видать бы тебе Маугля, как своих ушей!
Я готов их расцеловать. В зале я сажусь впереди всех. Свет гаснет, и начинается фильм. Хорошо вот так сидеть в занесенном снегом кинотеатре и смотреть вместе с вечно живыми фильм про животных, про сокровища города мертвых, про мальчика из Сионской стаи.
Мы с тобой одной крови, ты и я! — улыбаюсь я в темноте. — И с тобой, рядовой Зингер, герой эпического народного полотна, и с тобой, юннат Зингер, читающий книжку про кольцо царя Соломона, спящего тревожным сном в своем сионистском далеке, и со всеми далекими и близкими Зингерами, с его спутниками и наставниками, с рыбами, дремлющими подо льдом, с мухами, забытыми между оконных рам, с бабочками, преющими в кукольных домиках, с медведками в норах, с норками, нашедшими успокоение на плечах скованных морозом барышень, с медведями, сосущими лапы в берлоге, с лягушками во льду и пауками в янтаре, со всем зверьем полевым, птицами небесными, ископаемыми, кишащими в вечной мерзлоте.
Я знаю, что стоит мне обернуться — и я увижу пустой зал, покинутый моим прошлым. Но пока я смотрю на экран, где с ветки на ветку скачет Маугли, чья набедренная повязка и смуглая кожа напоминают мне о жидком гриме для невольника из оперы «Аида», которым я стану по прихоти зеленого Джузеппе, этого старца Сусанина, заманившего нас, евреев, в египетский огород, пока я не отрываю взгляда от зачарованного сада, оно остается здесь, со мной. Аморфность времени позволяет мне оставаться здесь всегда, до двенадцати, но там, снаружи — белый снег, ветер — не ветер, какие-то ультракороткие волны мягкой невесомой памяти, по которым я неизбежно поплыву дальше, утопая в этих волнах, утопая в этих волнах.