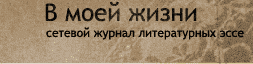зима в моей жизни / 24.02.2006
- Юрий Цаплин
Групповой портрет на фоне газового перемирияВ мусорном баке — четыре пары одинаковых, «допотопных» красных женских сапог. Или, во дни сомнений, сапогов. Апдейт снегурочек.
Зима — двужильный сезон, чьи силы не просто разумно распределены, но умножены на два, или наоборот — сезон-бедняжка, единственный разъят календарём на две части. Выдуманный зазор, куда падает выдуманный год, битком набитый всамделишными днями, — и все эти зимы-дни сделаны из «мы», какими «мы» могли бы и должны бы быть: из кристаллической, но подвижной и переменчивой влаги, жить ей в нынешнем агрегатном состоянии от часу до полутора месяцев. Ну трёх. Такие и есть, и никому этого не должны, просто — общая температура по палате, градусы зимнего оппортунизма.
Соблазнительны и вряд ли отменимы в нашем — по крайней мере, до тех пор пока он наш — климатическом поясе аналогии с нашей же умеренно континентальной жизнью, в начале которой младенчество, а в конце дряхлость, два к одному, или один к двум, кому как повезёт, и там, и сям — извинительные лепетанье и кутанье. Истаивающему человеку сквозь зиму сложно прожить, запросто и немудрено остаться, это энергетическая простота. Хотя, может, и мудрено, что́ мы ещё-пока понимаем?
Дым крематория зимой не поднимается, а к вящей достоверности расплывается по приснеженной пересечённой окрестности, свешивается в низинку, всю в густых пятнах омелы, не видимый, но обоняемый неотвязно.
30 марта 80-го, когда мама рожала мою сестру, снегу было вот по самый живот, а если вру, то столько, что скорая не смогла подъехать к дому и пришлось выбираться к ней по распушистым сугробам, наискось через щетинистые дорожные торосы, и это тоже зима.
Зимой следы сохраняют всё, — отсюда, наверное, и надежда на бога, но за богом ходили на юг, а не на север, где тоже петроглифы в вечной мерзлоте.
Прыгали с заборов, скрутившись бомбочкой, держась столбиком, изгибаясь буквой, разбрасываясь крестом. Маски счастливых лиц с проталинами у ноздрей, губ и даже, кажется, у ресниц.
Зимние — не знамо, затратные неэкологично или, наоборот, ресурсосберегающие: греющие взаймы у тлена, на расстоянии и без — любови, в одном синонимическом ряду с острыми респираторными заболеваниями. Разрешающие отоспаться, остаться, приотстать, и даже, не вставая с кровати, вернуться: прочесть навылет книжку-другую, продышать наследный шарф, посмотреть пару-тройку счастливых фильмов для среднего школьного возраста.
Вчера на катке понравился дядечка лет шестидесяти, — в костюме и винтажных, образцового состояния, конёчках: глядя на его уверенное ни-лишнего-движеньица-катание, я пытался хоть чему-то научиться. Время от времени дядечка брал за талию то одну, то другую начинающую даму (этому я учиться не пытался) и проделывал с нею показательный круг: пусть даже эта педагогика была не кристально платонической, уверенность в том, что хорошие манеры победят энтропию, она вселяла. Или надежду, разницы нет: чему ни выучись, толстомясая уверенность в завтрашнем дне — это всего тоненькая надежда, что и в послезавтрашнем как-то, может быть, что-то ещё-уже будет отдалённо перемигиваться с тем, что позавчера казалось тебе возможным и правильным.
С катка домой, из полпервого — в пять минут второго, ехали на такси. Рассказывая о семнадцатилетней шустрой «Волге», нахальных полупрофессионалах, преимуществах ночного извоза, необходимости общаться с клиентами на их языке (мы помалкивали), снова-таки уверенности и неуверенности, поездках к соседу на дачу, ста гривнях мелочью в бутылке, семидневной отсидке за контрабанду чужих товаров, таксист не закрывал рта ни на секунду и продолжал излагать последнюю из историй уже у подъезда, уже получив деньги, уже с приоткрытыми нашими дверьми. Так и надо, — иначе о том, что ты субъект, а не функция, поди до таких достучись.
Исчёрканный лёд, — а в лесу вполне соборные горожане жарят шашлыки, дым вздымается не очень, из завидного запаха траурный обертон уже не вычитаем, но в этой невычитаемости нет ни на букву содрогания, а в лыжном костюме даже и не зябко. Возле серого камня на братской могиле времён Отечественной, а для кого и Второй мировой, стоят свежие бумажные венки, перетренькиваются детские мобильники, из угадываемых клумб торчат тоже что-то произносящие на ветру коробочки с цветными семенами, кивая на юго-восток, где буддизм.Зима. На подоконнике сантиметров двадцать, так что, сидя за столом, вижу в белом окне только белый снег и белое небо. Если правильно спрятать высотное здание за рамой. Снег слоист, как платонова идея пирожного наполеон (хотел написать рентгенограмма, но там быть наполеону однородной мутной кашей: не всякое сильное зрение всяко сильнее). Впрочем, плоха та правда искусства, которая заставляет горбиться. Правда жизни — пирамидоновые тополя, стремительный кран, расклеечные щиты, кирпичный и голубой, высшая обувная фабрика — сегодня контрастней и разнообразней.