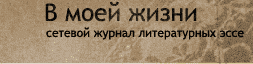еда в моей жизни / 6.10.2005
- Марианна Гейде
ЕдаЯ боюсь и непонимаю вещей, вещи небоятся и непонимают меня. Есть, правда, алкогольная независимость: что с неё взять. Вещи подкрадываются, как будто я хочу их украсть и они ловят меня на слове, на неосторожном жесте: незавидная участь. Самые опасные вещи называются «еда», их принимают вовнутрь и делают частью своего тела. Алкоголь — честный враг, на нём даже так и написано: «враг». Употребляя алкоголь, невозможно водить машину, скажем. А не употребляя алкоголь — можно? Машины — огромные полые жестянки доктора Кеворкяна, мы не будем о них говорить. Кто это — «мы»? «Мы» я говорю, когда пытаюсь убедить себя в том, что меня много. На самом деле меня мало, очень мало. В пятницу я побывал в доме, где есть весы — тоже вещь среди вещей, но на особом положении, поскольку сообщает о других вещах то, что никак не сможет сообщить о себе: вес. Они взяли мою вещь двумя ногами на две шершавые, с глянцем (вот ведь бывают какие поверхности — шершавые, с глянцем, как во сне) и выдали мне число: тридцать семь с копейками. Я говорю: «они взяли», потому что такая лёгкая вещь, как моё тело, даже если производит движение, само не верит в это движение. Такую лёгкую вещь стоило бы питать через поры человеческой слюной и жизнью, чтобы поры превратились в конце концов в маленькие рты и разминали внутри моей кожи чужую жизнь: с тех пор, как я стал весить менее сорока, я боюсь человеческой еды. Нет ничего более захватывающего, чем зрелище открытого рынка в Ново-Переделкино, горы квадратной, с пятнами будто бы тления семеренки, или этих мелких, приплющенных, как правильный глобус, на «м», с чуть не сказал «яблочным» румянцем, но почему бы и не сказать, если иные из них лимонно-жёлтые, с маленькими коричневыми родинками, и на вкус вовсе не яблоки, или антоновка, если речь заходит о яблоках, я оживляюсь, речь начинает петлять и заманивать: яблоки — не совсем еда, в яблоках больше воды, чем во мне. С тех пор, как я принимаю диуретики, во мне очень мало воды, как в высохшей бабочке или старой-старой кипе листов из записной книжки, я присыхаю к костям. Нет, пожалуй, только зрелище закрытого рынка в Ново-Переделкино, где свиные полголовы, как в музее, заставляют ознакомиться с полостями и сухожилиями, с жёсткими пожёванными ушами, одним пустым глазком глядя в сторону, и кажется на секунду, что и люди — женщины-хозяйки, дети, владельцы в точности как у меня плетёных из синтетического волокна сумок-нищенок, настоящие нищенки, ищущие перехватить какой-нибудь гнили, — все начинают ходить об одной половине, а в разрезы утыкаются стрелки с хорошими печатными разъяснениями: это система пищеварения, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, это рот, пересохший без слюны, это пищевод, ссохшийся от голода, это желудок в мелких лиловатых язвах, крошечный, не больше куриного, это — здесь выступает жестяной стол, на котором большими косо откроенными кусками громоздится печень, от печени отсекают куски, бросают их на весы, стрелка нервно дёргается и с полминуты раскачивается, пока не установится на приглянувшемся ей делении, словно шарик в рулеточной ячейке, тяжёлые гири утверждаются на дне живота, оттягивают несуществующей массой: диуретики я начал принимать по необходимости, чтобы предотвратить самоинтоксикацию организма, с каждым приёмом их действие ослаблялось, кишечник становится мягким и вялым, как мёртвый червь, и присыхает к позвоночнику, тазовые кости протирают кожу изнутри, под конец я забыл, зачем я их принимаю: самый смысл процесса поглощения пищи (это были яблоки) свёлся к тому, чтобы как-нибудь провести голод, протолкнув сквозь себя какую-нибудь обманку, при помощи лаксигала. Вот под стеклом развалилась, лоснясь крепко набитыми кожами, безголовая копчёная макрель, маленькие толстые скумбрии, мраморные на срезе, смерзшийся жалкий минтай — кошачья еда, в глубокой кювете целая гора креветок, поджавшихся, как зародыши, я смотрю на них с уважением: эта еда была бы нестрашной, кабы не дороговизна и необходимость отрывать их головы с глазами на стебельках и вылущивать маленькое мясо из хрустящих лапок, я смотрю на них с уважением, почти кланяюсь и прохожу мимо — к прилавкам с сырами, большими и дырявыми, или компактными, одетыми в целлофан брусками, или полужидкими, в открытых круглых коробках, — все эти вещи таят опасность. На них, как на мраморные плиты в метрополитене, можно смотреть, но прикасаться к ним или, боже упаси, попробовать их на вкус — небезопасно. Мы останемся на стороне яблок. Я уже не помню как следует, когда у меня взялся страх перед пищей, почему вещи, которые попадают внутрь человека, страшны, — прежде мне нравилось есть. В сущности, причину ужаса выяснять уже невозможно и ненужно: бывает, что, обнаружив причину, кажется, будто тем самым вынули из собственной головы и держите на ладонях следствия — но нет, перед нами только горка причин, словно креветочьи глаза-перчинки на стебельках, но зрение — зрение, как прежде, мы сами, зрение позволяет рисовать разнообразные, иногда несхожие друг с другом, а иногда легко накладываемые друг на друга узоры: вот сыпучие крупы в прозрачных пластмассовых колбах, вот четырёхгранные пирамиды гречки, зеленоватая, обоюдовыпуклая, как линзы, собирающие свет, чечевица, дроблёная пшеница. Можно рассказывать истории:
Перед тем, как начать испытывать страх перед едой, я просто не успевал ею интересоваться. Мне нужно было вставать в шесть утра, идти на лекции, через посёлок, на электричку, по морозу, после лекции едва успеваешь спуститься на первый этаж, чтобы покурить, и снова, потом, в перерыве, можно сходить в столовую, но у нас слишком мало денег и я иду в методкабинет, к К., выпить кофе и съесть бутерброд, потом снова на лекции, как-то так, не успеваешь об этом думать, слушаешь и думаешь о том, что слушаешь, а после домой, и там что-нибудь простое, потому что день уже закончился и есть вроде бы незачем особенно, легче лечь спать, потому что с утра вставать, и нужно ведь ещё успевать читать книги, а если не надо никуда идти, то и стыдно есть одному, когда сидишь дома и занимаешься переводами, думаешь: вот переведу три страницы и, пожалуй, поем, а потом, чтобы не расслабляться на пищеварение, снова садишься за работу, в какой момент страх проник в это тело? Почему оно перестало работать?
Нет, я отворачиваюсь от прилавка, получив полкило жирных на вид сушёных слив, пора выйти наружу, взглянуть на яблоки. Одну и ту же историю можно рассказать на десять различных ладов, это словно неестественно-длинный гриф какого-то музыкального инструмента, на котором всего три натянутых, как прутья, струны, они режут пальцы, возникают прозрачные волдыри, если разрезать такой, то изнутри потечёт вода и потом довольно трудно прижимать струны, зато после, если как следует потерпеть, кончики пальцев становятся жёсткими, как пятка, и ничего не чувствуют, и уже не хочется дотрагиваться ими до поверхностей, до человеческой кожи: это руки для хождения по железу. Можно рассказать так:
Эти люди, просиживающие свои часы в кафетерии, обложившись салатами и карамельным пудингом, люди, помешивающие сахар пластмассовыми ложечками, с лощёными руками и ногтями, обточенными, словно раковины, в хорошо продуманной одежде и с жизненным ритмом, — они не внушают мне отвращения, мне хочется любоваться ими, прикасаться к ним своими пальцами, нечувствительными от хождения по пластмассе, больше всего на свете я боюсь стать таким, как они, больше всего я боюсь того, что знаю: мне никогда не стать не только таким, как они — мне даже не притвориться ими, а если притвориться, будто я знаю вещи и не боюсь вещей, будто вещи не знают и не боятся меня, — это будет лажа: лучше ничего не говорить, лучше — если тебя зовут посидеть в кафетерии, если зовут — не идти лучше, тебе нечего делать среди этих людей, дитя, они говорят о еде, когда едят, они говорят о еде и им никогда не надоест, хочешь позвать гостей — приготовь им еду, о которой можно говорить, и вы сможете о ней поговорить, но только не пытайся сделать вид, что еда — это просто еда, то, из чего добывают и перерабатывают в себя тепло: это тело не печь, в которую можно закинуть дерево, уголь, людей, это тело — место для собраний и разговоров. Или иногда кажется, что всё, что ты видишь, слышишь, осязаешь, всё, что каким-то образом может стать поводом для разговора, — это еда: ты её поглощаешь, вынимая те части, что пригодны для собственного тела, исторгаешь из себя всё, что не похоже на твоё тело, приправляя собственной желчью, — в сущности, ты глубоко уверен, что мир состоит из тебя и говна, и всё, что ты не ешь, — это говно, дитя, и ты сам понимаешь, до какой степени детски-высокомерно подобное поведение, но если ты не будешь есть, то умрёшь, а если будешь — то всё равно умрёшь, немного позже, так, в сущности, какая разница...
Тебе говорят: вот я и среда моего обитания, вот я и среда моего обитания, вот я — и у тебя нет никакой среды обитания, твоё «ты» — это воздух, которым ты дышишь, и хочется стать двуединым и совершенным платоновским, способным ходить колесом, человеком, но вас разрезали и развернули, разрезали и разрезали ещё раз, так что ты одним глазом смотришь в одну сторону, а другим срезом, где кровь, кости и сухожилия, смотрят в тебя всякие встречные, поперечные, проходящие: вот он ты, в разрезе, точно для того, чтобы другие посмотрели и сделали выводы о вреде — курения, диуретиков, алкоголя, гордыни и высокомерия. Я смотрю на их руки, смотрю на их руки, их руки смотрят на меня.
Нет, попробуем ещё раз:
Перед тем, как начать испытывать страх перед едой, я и не начинал испытывать страх перед собственным телом: он начался вместе со мной. Не помню, чтобы у меня было тело прежде, чем я поглядел в зеркало, но когда я поглядел в зеркало? Или это было не зеркало вовсе, а чья-то любительская фотография? (опасайтесь любительских фотографий всех родов: память в них скапливается, как пыль под диваном, сбиваясь в шматы). Или — нет, я не помню, чтобы у меня было тело, как человек обыкновенно не помнит, что у него есть рука, если ему нужно, положим, вскипятить чайник — так было всё время, пока меня не били. Как человек не знает, что у него есть пол, пока ему об этом не расскажут — потому что ведь если жить и не знать, что ты не целый, то ты целый, и если тебя потянет к кому-нибудь, то ты будешь думать, что ты целый и тот, другой человек тоже целый, так бывает в очень раннем детстве или тогда, когда мы целиком отвергаем предшествующий чужой опыт, когда мы отвергаем их дерьмовую еду. Но когда человек не знает, что его можно ударить, то потянет ли его к другому, чтобы ударить его — пока ему не объяснят, что есть человек, и он тело, и его можно принудить к боли? Естественная боль вызревает внутри человека и внезапно выстреливает десятком игл, что с того? Боль внутри человеческого тела, в особенности желудочная или кишечная, или, всего вернее, приступ печёночных колик, — это древняя, древнее человека вещь, это не вещь вовсе, когда тело вдруг обретает глубину, подводные жители, актинии и полипы, всё то, что при нормальном функционировании организма не показывается наружу, начинает вдруг говорить с нами на непонятном нам языке, в самом раннем детстве, когда любой язык не до конца нам понятен: тот, кто помнит боль, перенесённую в детстве, от рождения двуязычен, ему легче не понимать. В детстве ребёнка учат понимать, слишком хорошо: боль, которая идёт изнутри, непонятна, приходит чужой и щупает холодным диском. Никто как следует не знает боль изнутри. Или если отец, или мать, или кто-то из близких — то преображается, умывает руки, снимает с себя регалии кровного родства: боль изнутри не признаёт кровное родство. Но боль, с умыслом причинённая другим человеком, — после этого ты уже не можешь отвертеться, ты повязан круговой порукой взаимного ущерба. Ты отражаешься в чужом теле собственной болью, как будто высекли свет и отправили растекаться по вещам и животным: боль, отражённая твоим телом, возвращается к тебе, набирая скорость, прожив с четверть века, ты обоюдовыпуклая линза, фокусирующая боль, чужая боль невнятна нам, мы лишь догадываемся, но кто способен уделить хоть частицу собственной боли как будто бы в вечное пользование другого, кто способен поверить в боль другого как в свою собственную — тот ещё может спастись, тот ещё может выйти из круга, и тогда его линза как чечевичное зерно, зеленоватая линза, капсула с каким-то неведомым препаратом, тогда начинаешь нарочно собирать боль по углам, по закуткам, из-под стола, из-под шкафа, точно единственная цель — абсорбция боли, и окружающие смотрят на тебя с плохо скрываемым отвращением, как на гноящуюся рану.В детстве ребёнка учат понимать, но вот что я вам скажу:
Днём меня разбудил К., поднеся к моему лицу закрытую кофейную банку. Я взял её в руки и понял, что она пустая. Открыв, я обнаружил бабочку «павлиний глаз», лежащую на дне, как старый-старый листок тёмного кружева. Я сказал: «Она мёртвая». «Она была живая, — сказал К. и вытряхнул бабочку на ладонь. — Должно быть, на неё так подействовал запах кофе». Неожиданно бабочка ожила и совсем самостоятельно уселась мне на палец. Она была уже на износе: потёртые нижние крылья, всего четыре лапки вместо шести, но с очень крепкими усиками, глядевшими вверх. Трудно было вообразить мою радость: мне казалось, мы загубили бабочку. Она пожила на шторах с полчаса, после мы её отпустили.Варёная кукуруза, со всех сторон зубастая, пасует перед нашими зубами, хрустит солью. Мы говорим на языке. Иногда странно становится от какого-нибудь простого выражения: допустим, говорят «найти общий язык», и вдруг представляешь себе двух сиамских близнецов, сросшихся языками, и они не могут говорить, не могут поглощать пищу, не могут обернуться. Мы грызём кукурузу, освобождая прозрачные желтоватые гнёзда, соль успевает хрустнуть и растворяется в слюне. Есть хорошо, это не страшно. Можно рассказывать истории:
Перед тем, как начать испытывать страх перед едой, я смотрел на своё истончавшееся с каждым месяцем тело, как оно присыхает к костям, обнажая рельефы, прежде угадываемые лишь на ощупь. Кожа становится тонкой, сухой и чистой, медленно отмирают все функции организма, не вовсе необходимые для жизнедеятельности. Человек, который не ест, не испытывает желаний к чужим телам, к чужим душам: желания тонкой плёнкой расползаются по поверхности его зримого тела, и чем меньше эта поверхность, тем плотней становится их сцепление: можно смотреть, как пальцы одной руки сплетаются с пальцами другой, как ноги крепко прилегают друг другу, забывая о том, что они — разные части одного целого. Ты словно коконом оплетён ощущением своего бесконечно дробящегося и слипающегося вновь покоя. Тебе приходится вспоминать, чтобы сделать жест, — но лучше не делать жестов. Если можно не есть — следует не есть: еда принесёт тебе силы для того, чтобы делать движения, но тебе незачем двигаться — ты находишься в дробном зеркальном полузабытьи, когда твой свет преломляется на поверхностях окружающих предметов, мерно возвращаясь и вновь распыляясь: если ты делаешь движение, то лишь для того, чтобы посмотреть, как изменится рисунок подвижных чешуек, в которых колышутся цветные зёрна. Выйди на улицу: там снег, большой снег, там ничего не видно из-за снега. Если вытянуться на диване, если представить себе собственное тело как вертикаль, то очень скоро мир перестраивается, как это часто бывает во сне, предоставляя тебе право безнаказанно вращать его по своему усмотрению: ты никому не причинишь вреда, потому что всё, что ты можешь назвать, по желанию, вертикалью и горизонталью, находится внутри тебя, прямее, чем позвоночник, прямее, чем воображаемая линия, проведённая через две точки, потому что самое наше воображение заражено ущербом и более не может нарисовать картину, которая не предполагала бы ущерба, — ты стоишь, прямой, как струна, и предоставляешь окружающему зажимать тебя на разных ладах, вовсе не быть с тобой в ладу, потому что и они — лишь болезненное преломление стёкол внутри твоей головы, пожелай — и их не станет...
Вот четыре узора, ни один из них не является ни вполне истинным, ни вполне ложным, это просто речь, описывающая круги, но это и душа, непротяжённая точка, описывающая круги и полукружья, чтобы обрисовать от часу к часу уменьшающийся объём, который когда-то занимало моё тело; в тот момент я начал писать, чтобы не сойти с ума, точно стараясь вопреки своему желанию восстановить и преувеличить то, что было утрачено; иногда мне казалось, что речь — паутина, которую паук вытягивает из себя, которой паук чувствует, и чем шире сеть, тем больше вещей и глаз попадётся, прилипнет, неудержимо, пока что-то очень простое — как смерть, как страх, — не сметёт метлой, потому что паук знает свою сеть, чувствует свою сеть, но она и тело его, и не тело: тело паука отвратительно и внушает ужас, паутина геометрически выверена и совершенна, всё, что я делаю, — это и правда, и неправда, но то, что мы примем за правду, — это будет сильнее нас, и то, что будет сильнее нас, то, в итоге, и окажется правдой, и тогда единственный способ быть — это быть тем, что внушает ужас, что вызывает отвращение, что склеивает вещи и вещи, натягивая вежду ними пустоту, что само становится пустотой, распадаясь на части.
В какой-то момент моё тело оказалось упрямей меня: я начал есть. Я пытался провернуть старую штуку с яблоками и лаксигалом — оно больше не поддавалось. Оно явственно требовало сладкого, жирного, всего, что может вместить наибольшее количество тепла. Оно яростно дробило длинные узловатые молекулы, кидая меня в краткий лихорадочный жар, потом остывало и требовало ещё. На тот момент моё сознание практически перестало мне служить, превратившись в спутанный клубок ужасов и ужасов, которые стращали себя самих, но не моё тело: переступая через меня, через моё отвращение, оно запихивало в себя всё, до чего могло дотянуться, вплоть до случайно подвернувшегося на столе кусочка мыла: мне приходилось уговаривать его, пугать разрывом ссохшихся внутренностей, иногда оно не выдерживало, к горлу подкатывала тошнота, желая облегчить его задачу, я засовывал пальцы себе в глотку, но оно упрямо цеплялось за свою добычу, казалось, успевая разжижить и всосать её на полпути к горлу: мне оставалось лишь давиться образовавшейся пустотой. В какой-то момент я не выдержал, испугавшись-таки разрыва желудка, вызвал скорую, меня увезли. На тот момент во мне был тридцать один килограмм и ни одна из систем организма как следует не функционировала: моё тело начало пожирать нервную систему. В мои вены воткнули иголки и пустили сквозь них раствор глюкозы. Через неделю, не обнаружив никаких необратимых органических изменений, меня согласились по моей просьбе отпустить, но предупредили о том, что, если я не оставлю попыток обходиться без еды, то через год умру. Я отвечал, что мне, в общем, всё равно, и, пожалуй, был и в самом деле не прочь умереть — но меня уже не спрашивали.