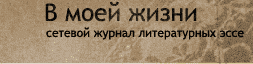птицы в моей жизни / 6.08.2005
- Некод Зингер
Человек создан для полета, как птица для счастьяСуди сам, вдумчивый читатель, может ли какое-либо из Господних созданий быть счастливее птиц, чей череп отличается плотным срастанием составляющих его костей, чей скелет легок необычайно, из мышц наибольшего объема, не встречаемого у других позвоночных, достигают грудные, а лишенный извилин головной мозг хотя и превосходит по весу спинной, но все же довольно несложного устройства?
Нам свойственно приписывать оттенки собственного настроения всему, что соседствует с нами. Недобрав, мы начинаем скулить: «Спой мне, иволга, песню печальную, песню жизни моей», нимало не задумываясь о том, что иволге и дела нет до наших земных жизней, не говоря уже о наших пошлых песнях. Счастлив снегирь, прилетающий ярким декабрьским утром к мороженой рябине городского сада, счастливы свиристели, нагрянувшие враз, скопом и свиристящие со всех сторон, дразня сбежавшего с урока навсегда, блаженны рябчики, хрустящие в крепких челюстях недолговечного буржуя, хорошо быть горным орлом, свободно парящим над городом, приговоренным к бомбардировке, радуйтесь вместе с воронами, преображающими мертвое в живое, ликуйте, сами ставшие птицами, большие пингвины и маленькие воробьи, бейте в кимвалы, встречающие прилет старлингов-скворцов, хвалите сизарей — отцов города, ликуйте с клестами, брачующимися зимой!
Даже сбитая на лету птица счастлива, ибо продолжает лететь, даже перелетная довольна, ибо зима стала ей летом, когда открылись пути. Охраняйте птиц, просите милости у пернатых, стройте им домики, ловите их, дабы держать в клетках в качестве домашних друзей, пойте им, пойте, поэты и петухи!
В самом слове «птица» для русского уха содержится намек, и оттого, встречая страуса, эму или казуара, мы воспринимаем их как издевку, в лучшем случае как несуразных пти-мэтров.
В раннем детстве я боялся большой нелетающей птицы из немецкой книжки, неприятный голос которой был записан на пластинке «Заломе унд Розенкавалир». Голенастый монстр Штраус с лысым черепом, стонущий капризным сопрано изломанной девочки: «Эр ист шреклих», — не оставлял иллюзий, и я в ужасе зажимал уши, задыхаясь от непонятного чувства фиолетовой приторной боли, чтобы на следующий день снова запустить блестящий маленький диск «Этерны». Удивительно, насколько долго пребывал я в мистическом неведении относительно штрауса, считая его птицечеловеком, пораженным странным безумием. Рассказ отца о происшествии на уроке зоологии в Анненшуле только поддерживал этот кошмар. Дер штраус хат грюне айер, ответствовал дер шюлер Розенбаум на вопрос об этой птице. Зельбст хаст ду грюне айер, воскликнула негодующая ди лерерин. И просветленная ди классе стройным хором запела: о розенбаум, о розенбаум, ви грюн зинд дайне айер. За этой рождественской картинкой вставал в моем сознании лысый маньяк с голыми ногами, топчущий груды зеленых елочных шаров, болезненно стеная в верхней октаве: эр ист шреклих! «Яйца пленных штраусов гораздо мельче», — замечает Брем. У тебя самого гораздо мельче! Каких только глупостей не нагородит эта немчура, придавая всему вид наукообразия. Водились и другие штраусы, кружившие над голубым Дунаем и прощавшиеся с Петербургом, но это были просто фамилии.
Одной из наиболее странных птиц в городе на Оби был профессор Цесарский с острым, почти ороговевшим клювом, заросший до очков рыжим курчавым оперением. Он был одержим идеей разведения гвинейских цесарок в условиях умеренного севера и появился в нашем доме с письмом, адресованным немецким коллегам и требовавшим перевода на этот птичий язык.
— Поверьте мне, — кудахтал профессор, делая странные ныряющие движения головой в такт словам. — Цесарки в ближайшие десять-пятнадцать лет вытеснят повсеместно привычных и абсолютно неэффективных курей. Яйца, которые вы станете скоро есть из-под них, будут содержать гораздо больше питательных веществ, мясо птицы наконец перестанет быть дефицитом, перья и пух наполнят наши одьяла и подушки. И, что самое удивительное, я вам скажу, опыты по разведению нумидине уже начинались в России и Германии в десятые годы, и если бы не грянула первая мировая война, прервавшая сотрудничество Кошкина и Фогеля, то мы бы уже давно кушали по утрам яичницу из яиц цесарки.
Ах, если бы Фогель, сидевший в окопе, возможно, прямо напротив моего двоюродного дедушки, мог слышать, как прабабка, принимавшая в гостях его находившегося в увольнении однополчанина, выйдя в соседнюю комнату, с возмущением сказала невестке:
— Когда Биньюмен на война, приттить холуй и жрать яешна!
Ведь если бы не кайзеровский милитаризм, Фогель с Кошкиным уж развели бы по деревням обеих империй пользительную африканскую несушку в таких количествах, что и яичница была бы совсем другая, да и настроение куда более благостное.
Неудивительно, что в неокрепшем сознании юнната Зингера всякая нелетающая птица имела ярко выраженную тевтонскую окраску, и, когда Наташа предложила ему установить наблюдение за эму и казуарами, время от времени откладывавшими яйца, из которых ни разу так никто и не вылупился, он встретил эту научную задачу с некоторой настороженностью. Австралийские нелетающие птицы, однако, не только не пели дурными голосами, но и не издавали вообще никаких звуков, и общение с ними носило самый формальный характер. Очень скоро он убедился в справедливости утверждения Брема о том, что замечательно умный и ясный взгляд эму совершенно не соответствует истинному его характеру. Эти оболтусы интересовались лишь пищей телесной, и если чем и производили на исследователя впечатление, то исключительно своей абсолютной безмятежностью и довольством. Они постоянно пребывали в некой приземленной нирване, доказывая всем своим видом, что нет ничего более губительного, чем неудовлетворенное стремление к полету, свойственное прочим двуногим. В то время, как их напарники по госгербу Австралии — кенгуру безуспешно пытались взвиться в воздух в пределах своих тесных апартаментов и явно страдали, гедонисты эму, рот до ушей, находились в непреходящей эйфории бездумного бытия.
Ярко размалеванные рогатые головы и шеи казуаров некоторое время служили объектами зингеровских живописных штудий, однако гораздо большим источником вдохновения было для него не вялое и однообразное поведение этих гигантских цесарок, а странная поэтическая легенда австралийцев с мыса Йорк.
Когда-то, во времена сновидений, когда лес еще не был огорожен и люди летали свободно над всей землей и над морем, жил один красивый казуар, который очень любил девушек. Он летал к ним по ночам, вызывая их на прогулку под звездами тихой песней, которую они слышали, когда открывали во сне рты:Вставай, вставай!
Иди, иди!
Лети ко мне! Лети ко мне!И когда девушка отправлялась гулять с казуаром, он поднимал ее так высоко над землей, что она переставала видеть свою хижину и забывала язык своего племени, а от забав с казуаром теряла голову и пела, пока небо не светлело:
Лечу, лечу!
Во мне, во мне!
Растет птенец, растет птенец!И отяжелев, каждая падала на землю, когда взлетало солнце, и лопалась от падения, как спелый стручок. И из ее почерневшей кожи выходили новые люди, но они уже не были похожи на птиц и не могли летать выше деревьев: кузу, сумчатые крысы и летяги, населившие все прибрежные леса и вьющие гнезда из травы.
Однажды казуар летал у самого мыса, где жили большие и сильные люди, умевшие прыгать в высоту до звезд и в длину до черной земли, которая за морем. И он увидел девушку, спящую с широко открытым ртом, и позвал ее, как всегда:Вставай, вставай!
Иди, иди!
Лети ко мне! Лети ко мне!И девушка взлетела с красивым казуаром на небо и стала играть с ним так, как играют мужчина и женщина. А братья ее проснулись среди ночи и, не найдя ее рядом, решили, что это казуар сманил ее с собой, выскочили из хижины и, забравшись на деревья, стали смотреть в ночное небо. Глаза их покраснели, и они начали видеть в темноте, но уже не смогли слезть на землю и стали кускусами. Тогда отец девушки кинул в небо белый бумеранг, ударивший казуара по голове так сильно, что пролилась из нее синяя и красная кровь и залила его голову и шею, а на лбу, где ударил бумеранг, вырос костяной рог. И казуар и жена его упали на землю, и, падая, она от страха еще шире раскрыла рот, и яйцо, где рос ее птенец, вылетело на небо. И когда она упала, то не разбилась, потому что уже была легкой, а стала прыгать и звать своего казуара, широко раскрывая рот, и превратилась в лягушку. А казуар, раненный в голову, тоже упал на землю, и отец девушки двумя руками сломал ему крылья, а мать девушки вырвала его яйца и отдала своему самому младшему сыну, младенцу, которого носила с собой, сделала ему украшение к его стручку.
Белое яйцо и белый бумеранг до сих пор появляются на небе ночью, но никогда их нельзя видеть вместе, потому что они враждуют. А казуар больше не мог летать. И поделом ему, иначе скоро совсем не осталось бы на земле птиц, чтобы летать и петь, и все люди стали бы ходить двумя ногами и лить слезы, как мы. Но казуар не оставил своих прежних мыслей и, прячась среди деревьев в лесу, подсматривает за девушками и юношами, когда те играют вместе, и горе юноше, если он заснет после забав в лесу, — казуар заберет у него назад свои яйца. Он бегает на двух ногах и, где встретит, ловит лягушек, поющих открытыми ртами.
А между тем в ограде зоопарка остановилось свое собственное время, ничего не желая знать о спящих на другом конце света австралийцах, утративших способность летать, о полужидком времени, текущем молоком и медом в направлении покрытого соленым прозрачным панцирем мертвого моря, и о легком, бессмысленном времени, пролетающем над стеклянным гробом отравленной ядом западной пропаганды Белоснежки, увлекая в своем неудержимом потоке стаи пернатых, мчащихся с севера на юг и обратно, едва успевая присесть на чемоданы.
В саду ничего не меняется, и пеликаны продолжают кормить птенцов собственной печенью, какаду в деланном изумлении веером раскрывают хохолки, а воробьи и синицы все так же подбирают остатки, не требуя большего счастья и всегда оставляя цесарю цесарево.