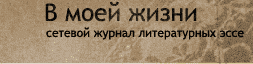птицы в моей жизни / 6.08.2005
- Вадим Калинин
Птицы, которых я не съелИ вот, на этот шипучий свет,
Гремя миллионами крыл,
Летели скворцы,
Расшибаясь вдрызг
О стекла и провода...Эдуард Багрицкий
Птица — это, как правило, небольшое крестообразное существо, наделенное недоброй, чрезмерно механистической конструкцией организма. Оно приспособлено к жуткому бессмысленному скольжению в ледяной обжигающей толще воздуха. Кроме распорок, рычагов и системы навигации птица обременена перьями и врожденным шершавым космическим ужасом. Этот ужас остро необходим, однако его второго созыва необходимость вдрызг разбивается об первоначальную, резкую, хохочущую избыточность птичьего существования.
Фамилия самого дорогого родственника моего детства, деда по матери, Водяной, сам я Вадим. На пальцах ног у меня обычные перепонки чуть сильнее развиты, чем у всех моих знакомых. Самое сильное интимное чувство домастурбационного периода было получено мной лежа в ванне с прохладной, чуть выше температуры тела водой. Это чувство пронзительных, щекотных мышиных коготков на позвоночнике, от которых хочется глубоко дышать в сырую тьму (которой совершенно неоткуда взяться в ванной комнате) и томительно пустосердечно улыбаться. Вольготней всего в раннем детстве я себя ощущал среди улиток, тины и коричнево-синей, искрящейся ряби, за самой верной, незыблемой в мире преградой — стеной жесткой, с беловатой зазубренной каймой, темно-зеленой осоки. Скажем проще, в детстве, в эпоху личного метафизического самоопределения мне довелось сделаться водяным человеком. Я удивительно плотно и навсегда связал свое «я» с жидкой стихией. Одним из определяющих толчков в сторону христианства стало для меня водное крещение, а самой обаятельной фигурой библейского пантеона для меня всегда был Иоанн Предтеча, жутковатый, татуированный и пирсингованый человек, ведущий неистовую чувственную и в то же время насыщенную религиозным экстазом жизнь на глинистом берегу коричневой страшной реки, в компании перемазанных в тине, исступленно пляшущих, страннолицых людей. Баптистом я не стал по причине врожденного религиозного скепсиса. Во мне есть не самое рациональное понимание того, что исповедовать надо чуть другую, слегка не свою религию. Между личностью и ее метафизическим ярлыком должна оставаться пьяновато ухмыляющаяся разница.
То есть птицы, крылатые насекомые и все остальные гипертрофированно рациональные, сухие, ломкие и вечно не щадящие себя твари воздуха воспринимались мной так же, как и вся присущая им гулкая белая безжалостная, перехватывающая дыхание пропасть. Эта стихия не казалась мне враждебной, но настораживала. Позже, по причине общей эмоциональной податливости оказавшись в ползущей по стене скалолазной связке, я еще раз убедился в редкой бестолковости и натянутой, разрывающей грудь избыточности болтающегося между небом и землей живого существа. Однако именно нелепый, визжащий кошмар птичьего мира, его напыщенное скудоумье и высокая безжалостность, его помет, перья и слепящие, будто бы уже прожитые столетья назад, секунды, его откровенное нежелание безболезненно взаимодействовать с моими рецепторами и создали незапланированный зазор, дурную дыру в моем восприятии, в которую сподобился залететь целый выводок не слишком объяснимых пернатых.Дрозды
Четырех лет от роду, в синем чрезмерно гладком синтетическом костюмчике и желтых разбитых сандалиях, я пробирался на четвереньках среди высоких картофельных кустов к иссиня-черной паре крупных, выпуклых, круглоглазых дроздов. Стояло промозглое, зеленоватое горькое лето. Чернозем от постоянных дождей стал скользким, липким и пахучим, как свежая ледяная окрошка. Я полз по нему на четвереньках к огромным, иконописно-деловитым брейгелевским дроздам. На коленках моих собрались чудовищные комья черной массы, с двух сторон надо мной нависали салатовые, траченные колорадским жуком картофельные кусты. В небе с промозглой медлительностью драных гигантских медуз ползли блеклые синюшные тучи. В ситуации ребенка, ползущего по грязи к двум крупным (на самом деле не очень-то) фактурным птицам, нет ничего удивительного. Удивительным было состояние ребенка в тот момент. Я был полностью, до промерзших насквозь больших пальцев ног поглощен абсолютным, не оставляющим места глупостям любопытством. Дрозды интересовали меня настолько, насколько, наверное, интересует ползущего по пустыне миссионера повисший поперек горизонта, жирный, сусального золота, полный холодного пунша Грааль. Однако любопытство мое было чистым, в нем равно не было места сомнению и вожделению. Дрозды просто, нипочему интересовали меня. Это был не потребительский и не исследовательский интерес, это было редчайшее любопытство «мечтательного влечения», испытанное мной раза три в течение дальнейшей жизни, причем всегда в гораздо менее эссенциальных формах. С восприятием моим происходили события сродни тем, что совершаются под ЛСД. Я по живущей где-то в стороне от ползущего меня воле приближал или отодвигал дроздов. Мое зрение приобрело способность особенного гибкого, совершенно необъяснимого зума. То я видел структуру больших, блестящих маховых перьев, то словно бы наблюдал пару птиц с шести разных сторон, распираемый изнутри чувством объема их тел. В круглых, черных биллиардных шарах — глазах дроздов отражался окружающий сизый ландшафт. Больше двух недель потом лежал я под грубыми белеными потолочными балками на железной кровати, под иконами в углу большой гулкой комнаты малороссийского дома, с доходящей до сорока одного градуса температурой, бредил и галлюцинировал. Потом, подчиняясь какой-то внутренней потребности, я встал на постели, залез рукой за божницу и вынул оттуда переломанное на четыре части бритвенное лезвие. Я выбросил его в открытое окно, в полный мокрых зеленых яблок сад. К вечеру того дня температура моя спала.
Стрижи и куры
Стрижи жили в дырках высокой песчаной стены. Трогать стрижей было важным, серьезным и трепетным занятьем. В целях достать стрижа двое друзей брали тебя за пятки и спускали вниз головой с верхней кромки обрыва. Болтаясь вверх тормашками, ты запускал тощую московскую лапку (именно из-за этого свойства ладони деревенские ширококостные ребята и посвящали тебя в стрижеискатели) в длиннющую нору, откуда летел наружу теплый пахучий душераздирающий птичий писк. В случае удачи стриж изымался из влажной горячей темноты своего жилища, а ты из перевернутого подвешенного положения. Стриж обследовался тщательно и осторожно. Он слегка обдувался, с целью убедиться, что перышки у него светлые у основания, гладился по удлиненным хвостовым перьям. Отдельно исследовалась манера заключенного в кулак стрижа склонять голову то вправо, то влево. Эта манера пародировалась и всячески одобрялась. Вообще по поводу стрижа принято было выражать всяческое восхищение, в присутствии девушек допускались нотки умиления и романтической восторженности. После чего стриж выпускался. В пищу он не шел по причине возвышенного изящества и общей светлой напуганности. Общество признавало единодушно, что для поедания стриж существо чрезмерно невесомое, трогательное и вообще надмирное.
В пищу шли воробьи. Они ловились при помощи дощатого ящика, поставленного одним боком на вертикальный карандаш. К карандашу крепилась бечевка, Под ящиком было пшено. Воробьи летели клевать пшено и обретали погибель. У воробья толстый, дурацкий и напыщенный вид. Он визглив, бестолков и вкусен. Я ел свежих воробьев и свежих перепелок. Воробьи вкусней, хотя готовить их проблематичней, из-за пробивающейся сквозь волны голода острой, ревеневого привкуса, жалости. Однажды, наевшись воробьев, я ощутил, что по пищеводу моему вниз течет очень много чего-то соленого, прямо в желудок. Это были слезы победившей жалости. Оказывается, слезы могут течь по двум дыркам на выбор. Одна ведет наружу, через глаза, другая вовнутрь, в желудок. Когда мой желудок наполнился слезами до какой-то сакральной древней отметки, я ушел в лопухи блевать слезами и воробышками.
Однако наибольшее отторжение в обществе вызывали курицы. Уткам многое прощалось за переваливающуюся нелепость и вереницы рассекающих мутную зеленоватую воду смешных патлатых утят. Домашние куры животные вполне выносимые, если не приглядываться к их нравам. Курицы этого типа похожи на почтенных и чванливых немецких горожан времен охоты на ведьм. Сходство особенно заметно во взаимосвязи высоты филейно подкрепленного социального статуса с близостью неминуемого аутодафе. Однако совсем другое — куры колхозные. Своим существованием они позорят не только птичье царство, но и все теплокровное население планеты. Колхозные курицы очень сильно напоминают московского коммунального обывателя советского периода. Эти животные лишены свойственной домашним курам живописной солидности, похожи между собой инкубаторской грязно-белой одинаковостью, часто повреждены паразитами и друг другом, тщедушны, драчливы, крикливы и нечистоплотны. Однако самый вопиющий их порок — это противоестественная муравьиная многочисленность. Для меня ценность особи всегда определялась по крайне незамысловатой формуле E1=E0/n, где E0 — средняя ценность особи вида, исчисляемая из расчета 5 единиц достоинства на одно полезное и положительное качество, n — количество особей в популяции, а E1 — собственно абсолютная стоимость любой особи данного вида в условных духовных единицах, представляющих собой отношение приращения затраченного труда к приращению полученного вознаграждения, в случае, если приращение полученного вознаграждения стремится к нулю. Впрочем, о бухгалтерии абсолюта подробнее в другой раз.
Колхозный курятник располагался на живописном откосе над прудом в пронизанной оранжевым светом и чудовищно засранной, засиженной и общипанной дубовой роще. Курицы покрывали мерзостным грязно-белым ковром навозную гору, кособокие навесики и другие одинаково смутные и округлые предметы, покрытые слоем вонючей мерзости. Их червиво-блошиное бессмысленное мельтешение будило в моей груди пронзительную темную струнку. Сердце начинало биться часто, дыханье перехватывало, смутная, но очень высокая ненависть просыпалась где-то ниже крестца. Сухим песочком забиралась она по позвоночнику в податливый неадекватным эмоциям мальчишеский мозг. Сиреневая, сумеречная жажда мести, высокой, как голос флейты, и темной, как голубика, горьковатой, как вечерний ветер, и сладостной, словно длинная драчка в полуденном орешнике, просыпалась во мне. Я не помнил преступления, которое должно было быть отомщено, и это поднимало месть на галактическую высоту. Я сдвигал брови, длинно сопел, и в ушах моих звучала тема Дарта Вейдера. В мановение ока превратившись (в собственных глазах, разумеется) в хищный, жаждущий чужой плоти скелет, я кидался в осклизлый куриный мир. Я метался вокруг навозной горы и ловил, ловил, ловил опизденевших вопящих куриц. Бегущая курица великолепна. Она является подлинным воплощением вдруг накатившего, столь же неожиданного, сколь и неотвратимого пиздеца. Бегущая курица вытягивает вперед худую шею, топорща корявые грязные перья, задирает хвост, обнажая перед врагом серую страшную дыру яйцеклада, и с противоестественной, оскорбляющей достоинство любого живого существа скоростью перебирает голенастыми разлапистыми ногами. Она топорщит свои нелепые недокрылки и апокалиптически разевает нос. Бегущая курица не замечает препятствий. Она застревает головой в плетне или же в случайно подвернувшейся табуретке. В юности мне довелось наблюдать, как убегает от своего палача курица с отрубленной головой. Это жуткое зрелище способно столкнуть в болото метафизических размышлений самую малорефлексивную натуру. Так и стоит перед моими глазами по сей день пыльный откос малороссийского подворья, вечерний красноватый свет, выпуклые, отчаянно бликующие пятна куриной крови, улепетывающее вниз безглавое созданье, и рассудительный и очкастый, отчего вдвойне более жуткий, далекий малороссийский родственник с суровой вдумчивостью, держа в трех толстых заскорузлых пальцах, словно вилку, топор, произносит длинно, смачно, но все равно потерянно на фоне бытийного кошмара: «От... Ну куды оно?..».
Перед всяким поймавшим колхозную курицу человеком встает резонный вопрос, на который нет и не может быть внятного ответа. Вопрос таков: «Что с этой курицей делать?» Понятно, что всякое разумное и голодное существо подъело бы добычу. Но где его взять-то, разумное и голодное? Совершенно негде, тем более что обитатели сельских местностей колхозными курами не питаются, отчасти из рациональных соображений, отчасти потому, что нехорошо поедать тварь, проведшую жизнь в сплошном страдании. Всякий поймавший колхозную курицу человек ищет ей дальнейшее применение в меру обуревающей его личной трагедии. Лично я бросал кур в воду. Зачем? Это не просто объяснить. Вообще все, что совершаешь спазматически, объяснять не стоит. Однако попробую. Не то чтобы объяснить, скорее подвести под такое куриное метание примитивную идеологическую базу. Мне, грешным делом, мерещилось, что мокрая курица (кстати, куры мокнут не целиком и неохотно) представит собой существо не то чтобы обновленное, но, как бы сказать... Нет, лучше уж молчать и хихикать в сырую тьму за окном. Могу вас заверить, ни одна курица не потонула. Перебирая с ужасающей скоростью лапками по воде, несчастные птицы хлопали по ней же крыльями и, аки посуху, в брызгах, мокрых перьях и мерзостных криках выбегали обалдевшие на сушу. За всякой тонущей особью я лез в воду лично, ибо полагал в ней особенное чудное и благородное упрямство. Однажды накатило на меня, и посадил я пару кур на специальный дровяной плот, чтобы плыли они, пока куда-нибудь не приплывут. Я сидел на берегу с ближайшим другом, поскольку к куриному метанию, как к делу выспреннему, но нехорошему, допускались только самые близкие и преданные люди, и смотрел на этот дурацкий плот, на котором, опустив всё равно бесполезные крылья, плыли к ненужной им свободе, уносимые мощным, но нешироким течением беспомощные и бесполезные созданья. Был красный длинный и теплый украинский закат. Чернели посадки, все вокруг казалось плоским и неземным. Совершенной иллюстрацией к марсианским хроникам вилась грунтовая дорога. Железными пластинками выглядели листья застывшего в безветрии ивняка. Куры уплывали. Я испытывал при этом удивительно тоскливое горькое чувство. Эти две куры с каким-то непостижимым космическим цинизмом выражали очень важную страшную, громоздкую и томительную, до сих пор мотивирующую меня идею.Удод и Выпь
Я видел удода и видел выпь.
Когда открываешь глаза в слоистой извивающейся толще реки и обнаруживаешь прямо перед собой абсолютно голый, словно бы ползущий на тебя свиной череп, и поднятые потоком мелкие камушки становятся белыми быстрыми искрами; когда, взобравшись на невысокую причерноморскую гору, не успев еще отдышаться, стоишь на неощутимом ветру, в висках бьется кровь, и совершенно статичный оранжевый лес на каменном лбу вдруг начинает медленно, рывками, словно пропуская кадры, шевелиться; когда, думая, что наступил босой ногой на шланг, и слыша совершенно необъяснимый женский визг за спиной, опускаешь голову и находишь под ступней шершавую, толщиной в руку, сокращающуюся змею; когда с восторгом, трех лет от роду тащишь матери толстого двадцатисантиметрового червяка и вдруг застываешь от, первый раз в жизни, спонтанно пронзившей тебя идиосинкразии, тогда... впрочем, по-моему, и так понятно, что тогда.
Трава доходила мне до подбородка, и я шел, раздвигая её руками. Было душно. От горячей и влажной почвы поднимался тяжелый пахучий невидимый пар. Трава удерживала его около земли, и мне казалось, что я по пояс погружен в липкую, температуры тела желатиноподобную массу. Мне было двенадцать лет, и я задыхался от желания. Через десяток шагов справа вырос среди травы высокий куст лещины, на котором висела малиновая велосипедная шина. В сердцевине куста синей рыбкой жила чуть затхлая грибная прохлада. Она меня и сподвигла. Я расстегнул шорты и принялся мастурбировать на парное тепло и на висящий в памяти вертикальным полиэтиленом запах коровника. Мутные капли спермы полетели косяком инопланетных кораблей в переплетенье в воздухе варящихся салатовых сильных стеблей. Я проследил их взглядом, быстро дыша от всей сладости существованья. И тут изменилось. Исчезла духота, пропало лимонное солнце, пропали мои ноги, мои шорты и член, потому что там, куда улетел инопланетный флот, сидел крошечный вычурный и выспренний, тончайший зеленовато-розовый удод. От него расходились натянутые розово-зеленые нитки абсолютной прохлады, и по ним словно скользили жемчужные капли. Он был противоестественно тонок. Его существование было холодно и абсолютно невменяемым явлением природы. Он был из мира цветущих на закате льняных полей и зеленых крошечных паучков, что гибнут в глубине бутонов каждое утро из-за скопившейся там липкой стонущей цветочной росы. И он умудрялся, сидя, ухватившись за несколько травяных, сразу ставших неимоверно грубыми, стеблей, побеждать, отменять, по крайней мере в моем восприятии, весь этот тяжелый, сильный, по-женски пахучий и по-мужски шершавый, полный хранящих прохладу кустов и мастурбирующих в траве подростков ландшафт.
Когда я вернулся домой, прошел дождь. Удод остался у меня внутри некой очень мощной и какой-то верной антитезой. Я ходил по обширному деревенскому, после дождя двору и прикасался к пеньку для отбивки кос, к отполированному конскими боками тележному дышлу, к влажной горячей спине кролика, к пушистым и клейким, в каплях воды снизу листьям яблонь. Все эти вещи теперь словно получили свободу. Вчера они были только частями ландшафта, сегодня же приобрели новый пафос отдельного, странно выпуклого бытия. В сарае, среди рубанков и белой сосновой стружки, я поставил ведро зеленоватого томного полупрозрачного «белого налива». Я ел яблоки, и одновременно я ел запахи, звуки и цвета. По большому счету я ел тогда удода. Я сожрал два ведра яблок, и, конечно же, это не прошло для меня даром. Ночью, в третий раз сидя в большом дощатом поросшем паутиной и лишайником деревенском нужнике и мучась от желудочной рези, я сочинил:Вот полночь, только яблоки не спят
И без причины смотрят друг на друга...«Выпь... Выпь, выпь, выпь...» — повторял старший товарищ, не переставая строгать сложной формы осиновую рогатину. За окнами ходил многослойный вологодский туман. Была осень. Утиная охота подходила к концу. Несколько минут назад я спросил старшего товарища, что это так странно не то гудит, не то укает. «Выпь...» — произнес он и не захотел остановиться, продолжая повторять это слово в сыром ватном банном воздухе зимовья. Я вышел в мокрые сени, где мне сдавил горло острый запах прокисших изнутри резиновых сапог. Заткнув пальцами нос, я надел поверх рельефного голубого свитера синюю с тремя белыми полосками по рукавам болоньевую ветровку, нажал пальцем на гнилую доску притолоки, так, чтобы проступила вода, и вышел в тёплый, серый, сырой полдень. Я постоял несколько минут, пытаясь как-то сориентироваться. Оказалось, что выпий звук доносится с совершенно никакой стороны. Тогда я решил воспользоваться охотничьим чутьем и пошел к далекой серой ажурной высоковольтной опоре по болотной тропе, состоящей по преимуществу из черных коряг и пружинистого березового горбыля, уходящего в воду, когда на него наступишь. Я шел около часа. Шуршанье болоньевой куртки и необходимость хвататься поминутно за что-то серое и мокрое усыпляли, делали движенье неощутимым. Чем дальше я погружался в болота, тем тяжелей становилась сырая вата зябкой тишины и тем ближе казалась выпь. Наконец я пересек вытянутую щупальцу болота и вылез на поросший елями склон. Неожиданно и резко пошел дождь. Я забился под плотную низкую ёлку и сел там, в глухом истомном уюте, глядя на ржавую железную дверь в пригорке прямо передо мной. Пахло сыроежками, и мнилось мне, что я читаю какую-то неведомую никому главу из «Алисы в Зазеркалье» под названьем «Шорох и Земляника». Очень медленно с всхлипом дверь в пригорке отворилась. Из нее вышел старший товарищ. Он поманил меня рукой. Мне очень не хотелось за ним идти, поскольку вид он имел серый и сомнамбулический, а осиновая рогатина в его руке была теперь очень сложным образом обмотана леской, на леске же матово блестел плохой водянистый дрожащий бисер. «Что ж ты тут сидишь? — спросил старший товарищ, - я тебя везде ищу. Пойдём уже, я тебе её покажу». «Кого это?» — спросил я. «Выпь, — ответил он. — Выпь... выпь... выпь...». Я, конечно, все же пошел за ним следом. Мы шли по сочащимся качающимся мосткам, между ровной порослью темно-зелёной, бело-малиновой у корневищ осоки. Он поднял правую руку вверх, посмотрел на меня без улыбки и сказал: «Выпь... выпь... выпь...». И я увидел Выпь. Она шла прямо на нас по болоту, беззвучно погружая толстые не птичьи ноги в топь, огромный, выше высоковольтной опоры столб испускающих серый туман перьев, рыжий кожистый клюв и круглые пустые и жидкие, как бегущие по трясине круги, глаза. От неё исходило домашнее непостижимое тепло. Именно в нём и жил подлинный ужас. ВЫПЬ МАНИЛА. Невыносимый страх перед этим чудовищно домашним теплом тут же разбудил меня. Я спал, сидя, обхватив колени, на брусчатой лежанке возле стола, а тепло шло от чугунной сковороды, полной свежеподжаренных грибов и утиного мяса.
После выпь показалась мне еще раз, в мутноватом окне увозящего меня домой серо-зеленого поезда. Она стояла подле серого столба, в воде, среди желтой болотной травы. Впрочем, и на этот раз я вряд ли мог её видеть.Бекас
Я выстрелил из короткого ружья и увидел, что попал. Маленький сеттер Славка бултыхался где-то в камыше. Бекас упал недалеко и, судя по звуку, на сухую почву. Я быстро его нашел. Бекас был ещё жив, несколько дробин повредили ему крылья, и еще выстрелом ему срезало клюв. Он сидел на земле и смотрел на меня круглыми неожиданно, из-за ставшего плоским лица, лемурьими или крольчачьими глазами. Дыра на месте клюва напоминала кричащий ромбический рот. Слёзы хлынули потоком вниз по пищеводу, и я, не в силах справится с жуткой смесью страха, жалости и отвращенья, задавил бекаса резиновым сапогом, ощущая сквозь подошву смерть мягкого беззащитного тельца. Потом меня долго рвало черникой и волнушками в подернутую ряской болотную воду. Больше я никогда не охотился на птиц. Я вообще больше никогда не охотился.