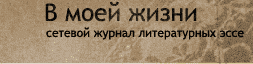путешествия в моей жизни / 16.05.2005
- Марианна Гейде
Про рюкзакНу что вам сказать, дорогие мои любимые и тэдэ? Если я скажу, что я грёбаный мудак, вы ведь и сами это знаете, что́ бумагу марать, но и смолчать на этот счёт я не могу, потому что ежели это уже мешает жить не только мне, то это, можно сказать, не только моя проблема, но к делу.
Во-первых, я очень люблю город москва, а если и гоню на него, то это исключительно чтобы он о себе много не думал. Во-вторых, что хуже, я люблю пить водку, а если и гоню на неё — далее см. выше. В-третьих, я очень люблю всех, кто живёт в городе москва, особенно когда много водки выпью, но дело не в этом. А дело в том, что, проезжая из города москва на костромском автобусе, я спьяну и в темноте оставил свой рюкзак, содержащий, кроме всего прочего, последний Вавилон, а взял вместо этого не свой рюкзак, содержащий школьные учебники, бутылку водки и паспорт совкового образца на имя Лебедевой Ольги Евгеньевны, каковой читать на порядок скучнее, чем последний Вавилон, — но в этом ли дело? Начну по порядку.
По порядку — это значит, я встал умеренно рано и ожидал городского автобуса, чтобы попасть на автовокзал, а у ног моих голуби шеберстели крыльями, желая друг у друга перехватить даёмый им хлебный сор, маленькие толстые голуби, от которых мне внутри стало гораздо лучше, чем прежде, ибо я понял — судьба посылает мне знак того, что всё будет хорошо. Следующий знак, посланный подлой судьбой, настиг меня на светофоре, когда автобус мой встал, а я, соответственно, лениво взирал на замерший ландшафт и вдруг обнаружил в нём какую-то несуразность. Несуразность состояла в велосипедисте, над длинноволосой головой коего зависало что-то вроде зонта, произвольно шевелящегося от, что ли, ветра. Пригляделся, и оказалось, что это вовсе никакой не зонт, а большая птица — орёл или ястреб, я не очень в них понимаю, но птица была колоссальная, она вздыхала всеми крыльями, не покидая велосипедистова плеча, она так и скрылась за поворотом, пока автобус мой стоял, и я не мог не принять это за добрый знак, посылаемый мне судьбой.
На этом добрые знаки закончились, и знаками чего они собственно были, остаётся не ясным. Знаете, как осыпается краска с ландшафта, когда подходит зима, знаете, как всё более и более прозрачными вплоть до проводов и их несущих ажурных столбов становится пригород — знаете, конечно, вы это знаете, но зачем вам, собственно, это знать? Вы смотрите ли в окно, дети мои, хоть когда-нибудь, не автобуса, так хоть в окно собственной головы, которое называется глаза, вы куда-нибудь смотрите, это я не вам говорю, но скорее собственной спившейся персоне, просто мне хочется делать вид, что вокруг есть люди, и я делаю этот вид.
Вернёмся к делу (да стоит ли? дело ли это? уместнее было бы сказать, что это абстрактное говорение, от которого произошедшее не станет лучше, ну да зато станет сказанным, сколько раз мы всё это слышали, сколько раз алкоголь в сочетании с транспортными средствами и безнадёжной влюблённостью становились темами такого вот говорения, так что ж, не скажу на сей раз ни слова ни про алкоголь, ни про транспорт, ни про безнадёжную любовь, тем более что её предмет насмерть запретил мне упоминать себя в любом контексте, да сколько можно, эту скобку уже сто лет пора закрыть) — да конечно это не дело, но какая разница? В москве меня ожидали:
транспорт
алкоголь
безнадёжная влюблённость
поэтому я так туда и спешил, закроем на сей раз: в москве меня не ожидала ни одна падла, это ясно, как божий день, а я всё равно туда спешил, потому что — ностальгия, что ли...
Колоссальные опоры новорожденного стадиона Локомотив, провисшие трибуны, присогнутые в сторону воображаемого спортивного происшествия осветительные конструкции, ослепшие от дневного света, я миную стадион с почти священным трепетом, самая мысль о том, чтобы оказаться в его кольце, внушает мне ужас, когда бы только меня занесло туда, мои барабанные перепонки не выдержали бы, потому что даже тишина в жерле стадиона Локомотив способна пробить печень, туда стекаются юные гопники в красных шарфах, там светлое пиво и светлый тевтонский пот, там не любят таких, как я, и бьют их по морде хорошо зашнурованными ботинками, рифлёными подошвами, взглядами, — я пройду мимо стадиона Локомотив, не вынеся его совершенства в своей маленькой голове. Я пройду вдоль неправильной загогулины Архиерейских прудов, в которых ещё сберегаются от скорой зимы селезень и на полшага за ним маленькая уточка с синим зеркальцем на крыле, пройду мимо бывшей богадельни, под которой лет двадцать уже запаханное кладбище, а рядом непонятное кусачее количество диких собак, они выползают из-под решётки, хватают граждан за брюки, они внушают мне страх и, как говорят, чувствуют — как не почувствовать, он тут, мой страх, под плащом, под перчатками, в прокушенной насквозь руке, в прокушенном насквозь мозге, вот кто встречает меня — собаки, собаки, но это сначала, а потом я добегаю до когда-то своего дома, и там меня встречают когда-то родные и близкие.
Каждый раз, когда я вхожу, Инна говорит, что я похудел. Если бы это было правдой, то от меня, верно, и тени бы не осталось, но это оптическая иллюзия. В этот раз Инна говорит: «как похудел» и «какая мерзкая у тебя шапка». Всё ещё случится, я возьму и не верну, потому что потеряю, кожаную иннину кепку, я так и не куплю хлеба, я не вспомню, с кем я говорил по телефону, и карточку с восемью единицами не вспомню тоже, так и останется на столе, а про иное что и до сих пор не вспомню, каждый раз, когда я уезжаю, Инна вздыхает с облегчением, она говорит: «как от тебя перегаром несёт», она говорит: «поздно не приезжай», она говорит, что я подлец, и она права.
А пока что ничего подобного не случилось, я жалуюсь на свою жизнь, на майора ФСБ, который навестил нас по случаю недовольства темой нашей научной деятельности, хотя эта деятельность давно прекратилась, он говорит: зачем Вы занимаетесь Фомой Аквинским, не лучше ли избрать учение Григория Паламы, он, несомненно, всё знает, у него хорошие сорокалетние залысины, он мог бы сойти за моего отца, а мог бы и не сойти, я отвечаю вежливо и выгляжу младше себя, я не знаю, к чему всё это, и Инна сочувственно кивает: жизнь, несомненно, не кажется нам мёдом. Она дарит мне свитер, мыло, вещи, она хочет, чтобы я хоть раз по-человечески, а не на бровях, пришёл домой, но тщетно. Я уезжаю на Лубянку, я уже здорово пьян, потому что вылакал по ходу дела всё красное вино из инниного графина, ссылаюсь на дурную наследственность, и уезжаю на чёртову Лубянку.
— Как тебя зовут, омерзительное дитя, куда ты так торопишься, ты не помнишь года своего рождения, ты не можешь связать двух слов, сколько тебе лет, омерзительное дитя? — в ближайшие две недели мне всё ещё двадцать два, мне следовало бы удавиться за эти две недели, чтобы иметь моральное право всегда говорить про себя: «иду, красивый, двадцатидвухлетний», последнее — правда, мимо музея Маяковского я всегда вспоминаю один и тот же достаточно бредовый вечерок, посвященный старообрядческому пению по крюкам, куда набился, собственно, с одной только целью — посмотреть на своего однокурсника, обладавшего несомненно греческим носом и синим пальто, пели и никониане, пели, пожалуй, несколько хуже старообрядцев, возможно, тем помогали крюки, не выдержал и спросил греческий профиль: что, подлинно ли москва — третий рим, он сказал, что да, я рассердился и ушёл, ибо в то время не любил и не уважал москву, что ж теперь, скажу ли я — москва, ты третий рим? Нет, не скажу, я и первого-то в глаза не видел, но подлинно ли стадион Локомотив — Колизей? Да, да, тысячу раз Колизей.
Однако пока суд да дело (опять какое-то дело на язык навязалось, да было ли у меня дело? Да, было, но его результаты уехали на костромском автобусе в идиотский и неизвестно где квартирующийся посёлок Лунёво, а мне теперь только и остаётся, что пить водку и читать школьные учебники) — я дошёл до своей якобы Альмаматер, что на Никольской, голубые бледные башни, я никогда не учился в этом корпусе, я даже внутри никогда не был, но всякий раз говорю, если есть кому слушать, — это моя альмаматер, у неё мучительно изрезанные кружевом колонны, у неё гордые двери в виноградных лозах, моя альмаматер, мне всегда хотелось напроситься в дети такой вот пятнадцатилетней псевдоготической марии, но мария не слушала, она закрывала глаза шторами и поднимала свои тонкие слабые кисти остриями вверх, она никогда не вспомнила моего имени. Поэтому я пошёл туда, куда шёл, а куда ж я шёл? Да в кабак же, в многостворчатый полуподземный кабак, где завтра буду расспрашивать об инниной шапке, где как последняя сволочь позволю тебе уйти, где как последняя сволочь и оставался бы навсегда в виде пластмассовой зубочистки. А сегодня я буду смотреть в кирпичные стены, в жестяные светильники, сегодня я буду здорово пьян, поэтому поздороваюсь и с теми, кого я в гробу видал, и с теми, кого я и в гробу не видал, и с теми, кто в гробу видал меня. Сегодня я встречу — да вот уже и встретил сыночка нашего Тёрлесса, здравствуй, Тёрлесс, шлю тебе из города Костромы (потому что, видимо, придётся-таки ехать в эту грёбаную Кострому) горсть снега, да, выпал же снег, это было на следующее утро, и зелёные листья лежали в белом снегу, но я ещё этого не знаю, Тёрлесс, я завтра буду плохо и по памяти, точнее, в беспамятстве читать из тебя, а где? да здесь же, только сутками позже, а покамест читают другие, ничего не помню и вряд ли что-либо понимаю, кроме того, что очень много людей, в конце концов, подсев на измену, убегаю со страшной скоростью в ещё неизвестном мне, но довольно правильном направлении, навеки утратив иннину шапку.
Ну вот, кажется, я благополучно пропустил всё, что хотел пропустить, можно переходить к зелёным листьям на белом снегу, но передо мной на столе всё ещё лежит этот чёртов паспорт старого образца, я раскрываю на фотографии, смотрю и прикидываю — что, не стать ли мне теперь Ольгой Евгеньевной Лебедевой? А она пусть станет мной. Я знаю, Ольга Евгеньевна, что для Вас это будет шило на мыло, Вы, как я понял, изучая Ваш паспорт, счастливая мать, чёрт возьми, четырёх детей от семнадцати до трёх лет, Вы, судя по фотографии, симпатичная женщина, Вы везли в своё Лунёво школьные учебники, книжку про горные велосипеды, весьмааа пристойную водку Старая Москва — а я? Что, есть у меня четверо детей? Везу ли я им школьные учебники и книжку про горные велосипеды? И пенал с прыгающей картинкой? Ни хуя. Нет, Ольга Евгеньевна, я Вам категорически не советую становиться мной, потому что в моём рюкзаке ничего такого не было, и в жизни моей ничего такого не было, я даже родному брату не привёз карамельку, и вообще ни фига не привёз, я даже не купил хлеба, когда меня попросили, стыд мне и позор. Лучше верните мне мою личность, состоящую в паспорте, страховом полисе, записной книжке и чёрных очках, потому что ничего другого, что для личности характерно, у меня просто нет.
Так вот, вернёмся к делу, которое на сей раз состоит в получении страхового полиса. Страховые полисы выдают, знаете ли, на Нижней Красносельской, железный мост, ржавые вагонные крыши, великолепные загогулины рельсов, там, знаете ли, прошли первые два года моей жизни, под этими вот рельсами, огромный перевёрнутый бокал Елоховской церкви, а где теперь керамзитные жалкие украшения витрины, возле которой я от удивления уронил ракушечную игрушку, то ли зайца, то ли белку, а в сидячей коляске ездил уже, как большой. Тоненькие-тоненькие глиняные купола над анонимной для меня церковью, где в моей пропитой башке место для вас, где зависнет голубь под черепной коробкой, как дух святой, где — да полно, я же сам вчера говорил тебе, Кира, что не верю ни во что, кроме своей грёбаной смерти, милая Кира, но это же гораздо после имело место, а пока что мне сказать, чудесная пергидролевая блондинка в очереди, гобеленовый плащ, венецианочка — хотелось её называть, рисовать на бежевом фоне стен страхового учреждения чистыми-чистыми красками по сырой штукатурке, как в детстве, или как в церкви, всё это бессмысленно, абсолютно бессмысленно, и я роюсь в чужом рюкзаке не без надежды, что в очередной раз он обнаружит в себе мои вещи, но вместо этого нахожу чужой школьный блокнотик, первая запись в коем — «найдите неизвестный член», хм. Ищу. Не могу найти, у меня отказывают мозги. Школьный же дневник, на четверть заполненный серебряной и золотой пастой, да ещё обращение Владимира Жириновского к детям, чтобы учились, познавали мир и жили настоящим, — за подписью. Господь мой, он прав, трижды прав. Я такая сволочь, что роюсь в чужих вещах, читаю чужие письма и сплю с чужими жёнами, а где бы мне золотой и серебряной пастой написать что-нибудь бесконечно милое, что-нибудь таким вот несуразным почерком Лебедева Олега, седьмой Б класс, я страшно боюсь, что Лебедев Олег пороется в свою очередь в моём рюкзаке, прочитает мою повесть, что в альманахе Вавилон, да и сойдёт с ума, не трогай, Олег, не трогай эту книжечку, это не совсем хорошая книжечка, потому что в ней я, оденет мою куртку, откроет мой паспорт, будет шарить у себя под мышками моим дезодорантом, чего доброго курить мои сигареты, седьмой Б — самое время, станет таким же мудаком, как я, — нет, пусть всего этого не будет, пусть всего этого никогда не будет, я медленно возвращаюсь в свою память о глиняных куполах, о свежей штукатурке, о потерянной шапке, всякий раз я что-то теряю в москве, в первую очередь — голову, но что же, я ведь вернулся, Инна бранит меня, говорит, что я сукин сын, читает мою повесть, что в альманахе Вавилон, и опять говорит, что я сукин сын, отмечая, впрочем, что «сукин сын» — это гораздо благозвучнее, чем «сукина дочь», а я ничего не помню, даже того, что ты мне позвонила, прости меня, я уснул, мне приснился сон, я и его забыл, потом мы всё-таки встретились, на полчаса раньше уговоренного, и первая деталь, за которой последовала вся остальная ты, были круглые серебряные серёжки, такие два блестящих шарика, закачавшиеся неожиданно, потому что ведь оставалось полчаса — но ты ведь русским языком меня просила никогда и ничего про тебя не писать, так чего же я опять про тебя пишу, а потому, что не могу не писать, вот и всё, а скажите-ка, вы, эмэм, всерьёз это всё делаете? Не вы ли, эмэм, говорили мне, что писать про то, как что-то написал, это уже всеми пропользованный приём, что вы, эмэм, Андрэ Жид, что ли? Да, говорил. Но отрекаюсь. А не вы ли, многоуважаемое эмэм, говорили мне, что вводить в тексты метатексты — это уже тоже всеми пропользованный приём, и что делать этого уже, пожалуй, и не следует? Да, говорил. Но опять отрекаюсь. Почему же я всё это говорил? Из зависти перед теми, кто умеет вводить в тексты метатексты и писать о том, как что-нибудь написал. Теперь я раскаиваюсь в своём малодушии и говорю вам, дети мои: вводите в тексты метатексты, пишите о том, как что-то написали, и да поможет вам Бог. Если же он вам не поможет, то вы можете и не делать ничего этого, необходимости в этом нет никакой. Так зачем же ты это делаешь, дерьмовое эмэм? Зачем ты пишешь про меня, когда я тебя просила про меня не писать? — я буду говорить от твоего лица, потому что потерял своё, вместе с паспортом и страховым полисом, вместе с головой, с совестью, памятью и шариковым дезодорантом, но вот в чём штука:
— Я искала-искала те стихи, о которых ты мне говорил, но не нашла.
Я сначала не понял, про что она. Я подумал, что она пошла по ссылкам на сайте, и сказал, что авторы, каковые мной были когда-то рекомендованы, поснимали свои тексты от омерзения, что я дал на них ссылки.
— Нет, я хочу сказать, что текст, в котором ты меня обижаешь и нехорошими словами называешь, там до сих пор висит, а где те тексты, в которых ты меня называешь хорошими словами и говоришь, что меня любишь?
Да вот он. Читай. Радуйся. Я тебя очень люблю. И тебя. И тебя. И даже тебя, хотя ты полное ничтожество. Это я не про тебя. А про кого? Да ни про кого, так, для красного словца. Да что ж в нём красного? Так, стало быть, по инерции. Итак, я тебя дожидался на автовокзале, не будучи совсем уверен, что ты приедешь, но сначала меня понесло на улицу Правды в надежде, что мне там дадут страховое свидетельство, не путать со страховым полисом, который на этот момент у меня уже есть, то есть теперь у меня его нет, а есть он теперь у Ольги Евгеньевны Лебедевой, чёрт знает почему мне в последнее время попадаются люди исключительно с птичьими фамилиями, как вы думаете, это хоть о чём-нибудь свидетельствует? Конечно же, нет, но параноикам закон не писан, потому что параноики себе сами законы пишут, поэтому прямо скажу — избыточное количество птичьих фамилий в жизни человека свидетельствует о том, что в эту самую жизнь закралась мрачная достоевщина, если бы вы только знали, как я не люблю мрачную достоевщину, однако она меня преследует неустанно, в один прекрасный (то есть это так говорится — прекрасный, а на самом деле отвратительный) вечер достоевщина материализовалась в виде задроченного памятника у ленинской библиотеки — впрочем, вы же меня русским языком просили не писать о вас ничего, ну что ж меня за язык-то тянет? Может быть, всё это из-за того, что прошёл ровно год, но ведь это просто инертность, каждый год в это время наступают заморозки, выходит альманах Вавилон, каждый год в это время эмэм приезжает в москву и ходит там на рогах, но довольно, довольно, как сказала одна прекрасная девица из города Киева, когда человек двадцать раз называет себя нехорошим словом, то это он, значит, самоутверждается, и она права, я самоутверждаюсь, поэтому обязуюсь впредь ни сукиным сыном, ни мудаком себя не называть, а говорить о себе самом нежно, ласково, гладя по головке, сам себе целуя руки и сам на себя не наглядясь, право, за что я себя так люблю, так безответно, так безнадежно — кстати, знаете, чем самовлюблённые люди отличаются от просто себе людей? Вовсе не тем, что они себя любят, себя все любят, — а тем, что они в себя влюблены. Самовлюблённый человек, равно как просто влюблённый, никогда не уверен в своём объекте. Он испытывает лёгкую тревогу. Он страшно боится, что сам себя бросит, сам на себя смертельно обидится, да, наконец, что просто возьмёт и сам себе изменит. Самовлюблённый человек сам за собой иногда шпионит. Сам себе делает презенты в виде цветов и шоколадок. Сам себе прикуривает. Сам себя кормит с ложки. В то время как обычные люди просто едят. Наконец, самое страшное: в глубине души своей самовлюблённый человек никогда не уверен, что его объект достоин любви. Он подозревает, что тот просто-напросто ничтожество. Ну, то есть, мы опять пришли к исходной точке: разумеется, я подозреваю себя в этом. Да. И всё.
А рюкзак мой тем временем доехал до Костромы и поехал обратно в Москву, только я ещё об этом не знаю, а сижу, поливаю себя всяческой бранью и даю себе следующий зарок: если рюкзак ко мне вернётся, то я брошу пить, а если не вернётся, то вскрою вены, потому что так дальше невозможно, а если бы я вместо этого поехал на вокзал и привёз рюкзак Ольги Лебедевой, то мне аккурат отдали бы мой, и не пришлось бы ему канать в Москву, но, как было сказано, я об этом ничего не знаю, а сижу у себя дома, злой, как чёрт, и не могу найти бритву. Кроме того, я недосчитываюсь некоторых фрагментов из своего недавнего прошлого, вместо коих мне лезет в голову всякое дальнее прошлое, памятник Достоевскому, ракушечные зайчики и белочки, я поднимаю голову: тусклое золото мозаики на станции Красносельская проплывает над моей головой, впрочем, это никакая не Красносельская, тусклое небо и венецианочка, вздрагиваю: кажется, вся штука в том, что всё это сделано из нейтрино и не рассыпается только потому, что ему проще так. А как сделать, чтобы оно рассыпалось? Конкретно — сколько надо выпить? Беее, надоело. Я судорожно пытаюсь собрать из мозаики что-то антропоморфное, но для этого мне нужно опросить свидетелей, а они лживы и порочны. Самый честный и непорочный свидетель — конечно же, Инна, и я спрашиваю:
— Инуля, что я всё-таки делал все эти три дня?
— Я тебе лучше скажу, чего ты не делал. Ты не купил хлеба. Ты не замолкал ни на секунду. Ты не фильтровал базар. Ты не вымыл тарелку. Ты не вернул шапку. Ты не приходил в сознание. Ты неантропоморфен, ты — нейтринная конструкция, ты нестабильная система.
— Инуля, что же мне делать, если я такой и есть? Инуля, я такой родился. Нельзя идти против природы.
Инуля даёт понять, что разговор закончен. То есть, по правде сказать, мне просто надоело за неё отвечать, я уже и за Инулю отвечал, и за всех, всё дело в том, что в перерыве по ходу сочинения всей этой ахинеи я съездил на вокзал и там мне сказали, что рюкзак мой приедет из москвы в полпервого ночи, и чтобы я не беспокоился, и чего это у вас руки дрожат, всё будет в порядке, то есть вены я себе вскрывать не буду, и позвонил тебе, и ты сказала, что нет, не сердишься на меня, и над моим рюкзаком смеялась, и утешила, и обещала приехать как-нибудь, и вот я теперь вижу, что всё вроде встаёт на свои места, смысл возвращается в этот мир, и даже кепка, верно, обнаружится в чьём-нибудь кармане, и брошу непременно пить, и заживу жизнью достойной, только таперича я закругляюсь болтать, потому что болтать об этом просто неинтересно, здоровы будьте.