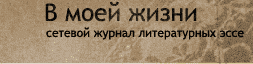английский язык в моей жизни / 7.08.2004
- Марина Тёмкина
Инглиш в моей жизниПрожив четверть века в англоязычной среде, мне больше бы пристало обсудить русский язык в моей жизни. По приезде в Нью-Йорк удивительно было слышать родную речь в английском языке. Водка. Погром. Казак. Есаул. Комиcсар. НКВД. Аппаратчик. Агитпроп. Гулаг. Спутник. Перестройка. На здоровье. Эмигранты помнят травму отъезда, даже потерявши язык.
Первый опыт в самом раннем детстве басом Поля Робсона пел на пластинке «sleep my baby, my little-little baby». В те времена я еще слышала семейный и коммунальный идиш. Натыкалась сквозь глушилку на разные языки, крутя ручку коротковолнового трофейного приемника. Потом все как у всех, но во всех трех школах везло с учителями.
Совершенно не помню, как сдавала нужные тысячи английских слов в университете в добавление к латыни и итальянскому, обычные для студента-медиевиста. Целый год носила с собой тома Оксфордского словаря Средних веков, не помещавшиеся ни в какую сумку. Словарь был многотомным, и мне выдавали том за томом из библиотеки по разрешению завкафедрой М.А.Гуковского, моего учителя. Зеленая обложка из неведомого материала цвета иностранной травки. Папиросные неразрываемые страницы. У нас таких книжек не производили ни видом, ни содержанием. Объект материальной культуры Запада и необъятной исторической эрудиции был ценен фантазией свободы, и в этом смысле ничем не отличался от джинсов или кока-колы. Не стану утверждать, что могла тогда свободно читать, пыталась, но больше просто носила с собой. По пути домой заходила в тусовочный Сайгон и там открывала книжку как смесь воображульства и средства защиты, к умным меньше приставали. Однажды натолкнулась на знакомого аспиранта и услышала: «Вас узнаю́т по этому словарю. Смотрите, чтоб не увели, — книжники прилично за него дадут». Как-то неловко от этой атрибутации.
Уехав из России, полтора года жила в Европе, в Вене и во Флоренции, и на каком-то английском говорила. Ходила в Венский университет на занятия интенсивным немецким, благо бесплатно. В Америке к языку возникло ужасное сопротивление. Возможно, причиной этого была новая фаза отделения от семьи, ухода из дома, взросления, и сознание цеплялось за русский. Писала много писем и ежедневно занималась русским языком с сыном. Скорее всего, это нужно было мне самой — родной язык создает психологический комфорт в иной лингвистической среде. От английского возникало ощущение античности: чем больше знаешь — тем меньше.
Решила перечитать английские и американские книжки, которые любила на русском. «Над пропастью во ржи», «Убить пересмешника», «Джейн Эйр». Плакала на тех же местах, что и в переводах, — эмоции обнадеживали. Покупала подержанные книжки Диккенса, Фолкнера, Джойса, даже могла через несколько лет помочь сыну читать сонеты Шекспира. Стала выписывать The New York Review of Books. Переводить эссе Бродского об Ахматовой начала больше из любопытства, какими словами они обменивались, чем «от податливости русской речи» и/или фиксации на «гении». Перевела и попросила его наговорить с листа своими словами, что он и исполнил. В результате получилось, что в переводе это эссе самое авторизованное.
Мои отношения с инглишем были разные в разное время. Стихи на инглише больше интриговали, чем интересовали, читала, если попадались. Быть переводчиком не хотела никогда. Так получилось, что большинство служб в моей эмигрантской биографии связаны с живым языком, по большей части, с переводом культурной разницы. Аналитичность английского делает его одновременно легко-и-нелегко-доступным, особенно в поэзии. Из имен мне известных английских классиков и модернистов долго не могла найти того, кого получалось и хотелось бы продолжать читать. Взялась за Уоллаш Стивенса, не могла оторваться. Потом Лора Райдинг, Елизабет Бишоп, Джон Ашбери, Адриен Рич. С некоторыми американскими поэтами познакомилась в начале 80-х в ПЕН-клубе, помогая разбираться в делах писателей, арестованных тогда в СССР.
Память нехронологична. В середине 80-х «Перипетия» Энтони Хехта ввергла меня в состояние необходимости перевода. Неизвестная мне форма личностной свободы и адекватности внутреннему голосу казалась не по зубам родному языку. Долго мучилась, перевела и возгордилась. Позвонила Бродскому. Читала, слушал, отреагировал на соперника: «Не заводитесь». По поводу свободного стиха публично негодовал, как бы не понимал, зачем эта свобода. Сам не умел и другим не велел, потратив много усилий на убеждение местных поэтов, истеблишмент и молодняк, писать в рифму. Выглядело это в местных условиях тоталитарно. Однако глухим или глупым он не был и сам рекомендовал мой первый такого рода опус «На ферме» в «Континент», говоря: «Вы написали нечто замечательное, но почему не в рифму?» Часто англо-американская поэзия это интимный нарратив просто человека, говорящего с другим человеком. Мне всегда хотелось достичь такой интимности, и во второй книге, прожив десять лет в Нью-Йорке, я стала к этому приближаться. Возможно, это опыт изменения к лучшему отношений с самой собой.
Интересно, что «рап», поэзия подростков гетто, появилась, когда никто уже в американской поэзии не писал в рифму. Рап это убойная сила поэзии уличных детей. Я стала расспрашивала «рапперов», почему они рифмуют. Ответ: потому что рифма это fun (непереводимое), самое близкое — кайф. Ритм, музыка, рифма, просодия имеют успокаивающие терапевтические свойства и продуктивны, как игра ребенка. Детская и подростковая креативность — это средство саморегуляции. Крайний случай — это дети, больные аутизмом. Единственное, чем они способны заниматься, это музыка, ритмические действия. При общей дисфункции в реальной жизни из них иногда даже получаются музыканты и композиторы. Это также касается детей с катастрофичным, особенно военным опытом детства. Ритм и рифма для них средство утешения, например, чтобы не бояться, когда оставляют одних. В России дети войны — это поколение шестидесятников.
На родном языке, менявшемся в процессе революций, террора, войн, оттепелей и гласности, пока что нет словаря жертв, адекватных для violence, abuse, privacy. В переводе эти понятия скорее эвфемизмы, метафоры или прямые кальки вроде слова «фрустрация». Violence приблизительно можно перевести как происходящее с применением силы. Примерами могут служить «случайные» драки в барах, на футболе, битье в семейных отношениях, преднамеренные избиения в криминальном мире. На поле боя, где violence санкционирована, актуально толстовское понятие «непротивление злу насилием». Применяется широко, как степь, включая насилие сексуальное. Замучаешься с этими переводами.
Весь прошлый академический год я занималась семьями эмигрантов, где бьют жен и детей. Часто жен избивают в присутствии детей, в каковом случае в Америке ребенка могут забрать от родителей. Быть свидетелем violence, когда один родитель бьет другого, для ребенка психологически деструктивно. Как правило, женщин избивают те мужчины, которых в детстве била мать, не отец. В пяти процентах случаев семейной violence женщины бьют мужчин. Это всегда вызвано психическим состоянием того, кто бьет. Иногда в таких случаях наступает смерть жертвы от побоев. На английском языке существует огромный легалистический и психиатрический словарь, связанный с domestic violence. Этот язык возник сравнительно недавно для описания социальных перемен, вызванных к жизни практикой феминизма. Переводить вопросы с английского на русский в полиции или в суде непросто, у нас просто нет на это языка. Чаще всего слова на нашем домостроевском языке звучат насмешкой над жертвой, стоят на стороне силы, против потерпевших. Если (романтическая) задача поэта создавать язык, который не существует и кому-то нужен, то я этим немного занимаюсь, концептуально переводя с английского. Контекст кажется мне вполне поэтическим. На русском языке трудно оказывать психологическую помощь потерпевшим, в их опыте нет языка надежды, языка изменения ситуации и улучшения жизни. В Нью-Йорке, в культуре легалистического, политического и психологического сознания, на таком языке говорят.
Непереводимо и слово abuse. Фрейду пришлось придумать это слово, на немецком его не было. Abuse был, слово — нет. Переведем abuse как оскорбление: физическое, словесное, эмоциональное, финансовое. Перевели, поздравляем. Тут остановлюсь, потому что американский английский насквозь пропитался концепциями психоанализа, плюрокультуры и гендерной практики. На родной это переводится как целинные земли. Есть английские слова, которых мне не хватает в родном языке. Например, misleading, separation, intelligence — они не вдруг переводятся.
Эмигрантский английский это язык функциональный. Минимализм его грамматики, концептуализм синтаксиса позволяет найти работу и её не потерять, и даже сделать карьеру. Такой английский простой, выучиваемый, он одновременно интегрирует и отторгает иммигрантов в новой культуре. В России профессионал с высшим образованием иногда мог одновременно оказаться гуманитарной интеллигенцией. Так же и в Америке, но здесь эта популяция не называет себя элитой. Иммигрант-профессионал умеет писать по-английски, особенно если академик, и уж разумеется — если врач и адвокат. По сравнению с Европой в Америке вообще много быторабочей писанины от учителя до счетовода и фермера. Все платят налоги, и профессиональная этика заставляет отчитываться финансово. Специфика американского менеджмента, по-старому делопроизводства, в её отчетности, проверяемости, и эмигранту этого не миновать.
Как все, я сочиняю на инглише гранты, доклады и рекомендации — прикладные жанры поэзии. Девяносто, если не больше, процентов свободного времени американского художника-писателя тратятся на поиски и писания грантов, т.е. поднимание фондов на свои проекты. Жизнь поэта в иной лингвистической среде может оказаться изоляцией, когда, согласно Платонову, «некуда жить и думаешь в голову». На английском я также пишу инсталляции визуальной поэзии и имиджей. В отличие от книжного общения, выставочные проекты ангажированы и создают непосредственность коммуникации с аудиторией. Занимаюсь артом, и это fun.
Недавно целый семестр занималась французским в Колумбийском университете. Невыносимое для меня испытание — разговор по-русски с теми, для кого это не родной язык. Пусть терпят мой русский акцент на эмигрантском английском. Замечаю обилие англицизмов в этом несвятом писании. Я собираю русские слова, одинаковые с английским (когнаты): банк, танк, флаг, банан, суп, салат, металл, стул, оккупация, армия, генерал, бомба, инцест, опера, вальс, вулкан и т.д. — набрала около двух тысяч.