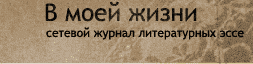стол в моей жизни / 1.04.2004
- Юлия Идлис
Начинается от окна и доходит до самых моих глаз. До меня; дальше в этой комнате ничего нет; все заканчивается на мне, на уровне глаз. Огромное пространство разбегается на нем изо всех сил, чтобы его можно было увидеть, и бьет с размаху в переносицу. Это вот глянцевая, скользкая, бесконечная дыра: если смотреть через него, то окно никогда не наступит, так и будет маячить за пределами, как идеальная возможность, идея окна, которую нельзя потрогать руками; да и, в конце концов, что там за окно, обычный прямоугольник света, там время и расстояние, если мысленно протянуть руку, то можно дотронуться ею до такого же мысленного стекла, а потом и сквозь, и можно коснуться чего угодно, но все будет такое же мысленное, скользкое, глянцевое, и не пускать свет. Закрыть шторы.
Я встаю, и он съеживается и притворяется четырехугольным, восемьдесят на сто двадцать. Люди не должны перерастать стол; куда уходит огромное пространство, которое разбегается на нем, когда — на уровне глаз? Столько всего: окно становится ближе, но в нем вырастает стекло, которое бьется; улица за пределами доступна взгляду, но за ней — другая, которую уже не видно. А ты — за границей — и вообще исчезаешь, потому что мысленным вещам не место, восемьдесят на сто двадцать.
Например, слово стол, — говорит он. Это совершенное слово, единственное число, мужской род, нулевое, именительный, квинтэссенция языка, отсутствие всяких признаков. Переплетение букв и звуков, когда сидишь за ним, — что может быть меньше одного слога; что происходит с ним, когда о нем говорят. Если говорить и одновременно касаться рукой, — на губах темно-зеленое «о», под ладонью — холодноватый глянец. Если сложить их вместе, ничего не получится, они не складываются — цвет и холод, или звук и отсвет, даже не соприкасаются, потому что можно только то, что потрогать руками. Я не знаю, что такое «стол», никто никогда не видел. Тебя тоже нельзя, есть только слова — буквы и звуки твоего имени, холодные и светлые, шершавые, с острыми краями; воспоминание о тебе, кажется, выгравированное на хрусталиках глаз; взгляд я остужаю о гладкую поверхность, когда становлюсь на колени вместо стула, к столу, на уровне глаз.
Все мысленные вещи кончаются, когда перестаешь говорить и превращаешься в один скользящий зеркальный взгляд. Тогда намного больше и как-то более пусто, потому что ничего нет. Пространству легко разбегаться, соскальзывать, не оставляя знаков. Моя маленькая реальность, холодная и светлая, новорожденная, как и я; крошечная дрожащая невозможность. Когда тебя принесли из роддома, — улыбается мама, — кроватки не было, и мы положили тебя на стол. Поворачиваю голову и вот, огромное пространство разбегается во все стороны и нигде не кончается, прямое и твердое. Все здесь ровное, лежать и стоять — такие же действия, как читать и писать: этому учишься уже от скуки. Одно и то же: лежать и стоять; это значит становиться тяжелее, впускать в себя реальность, выдавливать из себя пространство и слова, воздух и свет, возможность потом далеко за окном взять тебя за руку через границу. Восемьдесят на сто двадцать, гладкий, твердый, прямой; он давит мне на плечи, мне больно и хочется оторваться от него; ты спала на столе всю ночь, улыбается мама, а утром — он продавливает меня насквозь, проникает в меня все глубже, вползает под кожу, становится моим позвоночником и затылком, пятками и тыльными сторонами обеих рук, пространство покидает меня и обваливается по краям, и я кричу, кричу, — и меня берут на руки, чтобы покормить.