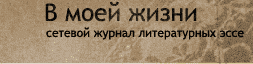автобус в моей жизни / 15.10.2003
- Андрей Тавров
Снежок-ZТрамвай рифмуется с раем и устремлен к небу. Автобус с раем не рифмуется. Автобус рифмуется с глобусом и волком-люпусом. Поэтому он — больше о Земле. Трамвай распрямлен и раскрыт коробчатым змеем к паркам, прудам и облакам. Он похож на доброго дракона, спаренного с птицей. Автобус пологостью линий и плавным скатыванием обводов, стремящихся замкнуться ближе к земле, — на теплого и урчащего медведя. Во всяком случае, именно на таких «львовах» и «ЗИЛах» я ездил большую часть жизни. От Москвы до Тбилиси и от остановки «Бзугу» до остановки «Бытха».Так в городе S называются два места обитания с сильным перепадом высот относительно друг друга.
Мне было лет четырнадцать, когда я забрался в отходящий автобус, сжимая в правой руке пригоршню снега, не успевшую стать снежком. Кажется, я ехал без билета, зажав снег в кулаке и наблюдая за проносящимися за окном прутьями ограды динамовского парка, на котором тогда был каток с конькобежцами и росли деревья с красными вспышками снегирей на ветках. Снег было выкинуть некуда, и поэтому я продолжал сжимать его в кулаке.
Когда я разжал ладонь, на ней обнаружилась странная форма — что-то вроде снежного огурца, четырехкратно продавленного подтаявшими впалостями и недооформленным изъяном большого пальца. Глаз наткнулся на объект и остановился, словно завороженный. Странно выглядело существо у меня на ладони. Отчасти оно напоминало раковину наоборот, отчасти ручку рапиры. Еще оно вызывало в памяти рукоятки для пистолетов системы Марголина, которые вырезали из дерева и заменяли ими стандартные металлические некоторые мои друзья, малолетние снайперы, уверяя что для скоростной стрельбы по мишеням фабричные — плоские и закругленные — не годятся. Еще оно напоминало гигантскую личинку. И еще — объект грязновато-белого цвета с пористыми вкраплениями льдинок явно принадлежал одному из тех кошмарно правдивых и нигде более не виданных образов, которые роились, складывались, плавились и оформлялись в глубинах глубин моих детских снов, чтобы вынырнуть на поверхность то ли в виде устрашающего и вязко кошмарного, в ластах-конечностях существа, то ли в виде манящей и протаивающей внутри самой себя темно-лиловой амебообразной дали, то ли образуя перед развернутым внутрь сновидческим глазом что-то вроде недоразвитков позднего Кандинского, разговоры о котором я уже слышал в своем тогдашнем Доме Художников на Верхней Масловке, но работ которого еще не видел.
Существо это или объект — здесь это не имеет большого значения, — которое в дальнейшем я буду называть зет-снежком, лежало у меня на ладони до тех пор, пока через две остановки я не выскочил из автобуса на мерзлую мостовую. С некоторым недоверием поглядев на него в последний раз, я размахнулся и зашвырнул его на крышу одноэтажного домика, где оно и кануло в белой шапке снега на куше. Но к вечеру я выяснил, что легко избавиться мне от него не удастся. Зет-снежок прочно поселился в глазах, видимо, посчитав их той самой раковиной, в которой можно чувствовать себя в безопасности на любых глубинах и в окружении самых различных подводных тварей.Человек только автор
Сжатого кулака, —
Как сказал авиатор,
Уходя в облака, —— собственно говоря, идея до какой-то степени верная, если ее своевольно откорректировать: не самого сжатого кулака, а того пространства, который этот кулак сжимает, а более точно — того пространства, из которого он (кулак) вырастает. Человек — автор зет-снежка. Сам сжатый кулак отчасти напоминает формой человеческий зародыш, парящий в материнской утробе. И это потом разворачивается в человека и его золотое сечение. То, что кулак сжимает — зет-снежок, — является эмбрионом всего, что возможно создать человеку в материальном и вещественном плане, включая сюда египетские «вещи», воспетые Рильке, компьютерные технологии, форму прически или след пера на бумаге. Это тактильный зародыш всего сотворенного человеком. И если Вселенная образовалась из Космического Яйца, то все человеческое творение вышло из зет-снежка. Проделаем такой опыт: я смотрю на первое попавшееся — кирпичи, уложенные в дома за окном (каждый кирпич несет на себе вмонтированное в него усилие пальцев), на асфальт, раскатанный укладчиком, ведомым пальцами, обхватившими его баранку, на мотоцикл, стоящий на той стороне тротуара, — все они вышли из кошмарного по смысловой уплотненности, черного гумуса зет-снежка. Другое дело — непосредственно ли оттолкнувшись от ладони или через множество передаточных звеньев, именуемых технологическими процессами, как компьютер, например. Ясно, что дела это не меняет. Рукотворная вселенная вокруг нас со всеми ее ипподромами, яхт-клубами, шахтами, билдингами, хайвэями, самолетами, автобусами, библиотеками, университетами и полетами на Луну вмонтирована и встроена в зет-снежок, тающий в некой анонимной мальчишеской ладони.
С рук наиболее выдающихся людей — пианистов, писателей, возлюбленных — иногда снимают гипсовые слепки. Почему никто не снял с этих рук, изнутри этих рук — зет-снежков? Потому же, почему никто не будет снимать слепок руки с младенца. Эта ладошка еще ничего не успела — отдать.
Дело в том, что у зет-снежка есть еще одно имя, еще один голос, который звучит как моё.
Как не отдам. Душа человека не отдающего сформирована по принципу зет-снежка, и я уверен, что души Чистилища образуют космическую метель в условном пространстве, где меж монстров-астероидов и горящих и поющих букв носятся в безмерном, черном, но высветляющемся кверху объеме зет-снежки. Поднимаясь все выше и наполняясь светом, они разворачиваются — в деяние. Не дай мне Бог увидеть эту метель наяву. Но Бог дает. Потому что в Чистилище мы идем с тем, что мы есть на Земле. Собственно говоря, даже идти не надо. Данте это знал и мыслил себя гостем Чистилища, а не Рая.
И не похожа ли компьютерная «мышка» на подтаявший зет-снежок?Рука, принимающая удар гвоздя, — разжата.
Геометрия зет-снежка — геометрия положительная, сжатая. Она начинает истаивать и трещать в той мере, в которой разгибается ладонь. Ее предел — условная плоскость — это конец зет-снежка. Потому что такой ладонью ничего нельзя зажать. Вы скажете, что сотворить тоже нельзя. Но именно такой ладонью можно — дать. Именно она протягивает самые дорогие вещи — пригоршню воздуха к щеке подруги, обручальное кольцо, себя самого, помещенного в слово молитвы.
При отрицательной геометрии ладони пространство искривляется и время останавливается. Потому что это — ладонь отдающая. Это райская парадигма. Это то, о чем поэзия. Это то, когда все можно и скорость света превышена. Это тот миг, когда с человека спадают «кожаные одежды», на плен внутри которых он обрек себя после духовной катастрофы, закодированной под именем «грехопадения». Это обратное время Мандельштама и его московских бульваров с тополями и липами, это его тепло под перчаткой, вырвавшееся наружу и обратившееся в райских птиц и зверей, белоснежных барсов и аметистовых пчел, которые полетели по курве-Москве, неизлечимо заражая ее привитым райским дичком.
Зет-снежок это эмбрион цивилизации, который поэзия все время прорывает, указывая на новую форму ладони. Кулак и облако — разнонаправленные движения и несоприродные миры.
Зет-снежок кончается в щепотке с зажатой в ней авторучкой.
Поэтому трамвай мне милей, чем автобус.