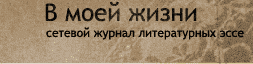дождь в моей жизни / 15.07.2003
- Анатолий Барзах
Феноменология дождяОбласть Венето была знаменита своими лошадьми — ночной стук дождя и громыхание ставен в полусне кажутся далеким поцокиванием копыт античных окаменевших на надгробиях табунов — камень стучит о камень и страшный косо глядящий глаз фонаря перемещается между веток, всхрапывает порывом ветра, уносит прочь кибитку гэстхауса. Утром они ушли, ускакали, только едва слышно удаляющееся постукивание...
... сидя на веранде, ночью, за грязным столом, под шлепанье, чавканье того, что, кажется, называется этим с трудом выговариваемым именем: дождь. Меня всегда поражал этот звук, эти слипшиеся листья железнодорожных согласных ожидания, звук, идущий неизвестно откуда — или вот, когда вечером, осенью идешь по дорожке между домами и что-то (кто-то) постукивает, пришепетывает — он «неизвестно откуда» — потому что отовсюду, потому что везде,— и ты не сразу догадываешься, чей это звук, что является его причиной, что его причиняет — причиняет миру, как причиняют боль — ах да, это дождь, такой мелкий, крохотный, что завернутые в одежду руки, занавешенное кепкой лицо не признаю́т его сразу — это его звучание, вздох, мимоходность, прохождение мимо — ведь дождь и вправду идет — мимо слуха, мимо света, мимо зрения, мимо рассудка, который вдогонку — тебя уже не догнать, не задержать — шлет свое «ах да...».
Ведь дождь, как правило (а наш, питерский, особенно), — незаметен, точнее, почти не виден, невидим: когда дети хотят нарисовать «дождь», они чертят странные косые линии, как будто расставляя по пространству стёкла, проявляющие не замечаемую глазом штриховку, гравировку воздуха: да, чтобы увидеть дождь, необходимо подставить ему нечто, проявить его на стеклянной перегородке, как на фотопластинке, сквозь которую уже не пройти, не ощутить, вздрагивая, его (твое) касание, только прижаться, размазав бесполезные губы: когда он виден, его (тебя) уже нет, ты упираешься в прозрачное непроходимое стекло, в копию дождя, в его след, в твое, мое молчание, смолкание (не упасть на землю, не обнажить ее звучность, твое прерывистое дыхание) — зрение здесь, как это ни странно, исключает присутствие. Для дождя. Дети — стихийные материалисты, они нутром чуют тут что-то неладное и упорно и грубо опредмечивают дождь, превращая его в эти остекленевшие карикатуры.
Впрочем, это не совсем так: вот, на мостовой появляются черные пятнышки, их становится все больше, мостовая обугливается — только под деревом еще серая тень — все остальное покрыто ровным слоем золы-влаги: в отместку за ловушку зримости дождь выжигает невзрачный городской цвет: но даже и здесь он появляется не как некая прибавка к уже видимому, а как его убавление, очернение, зачеркивание (может быть, еще и потому те детские косые линии так напоминают следы решительного отказа от неудачного чернового варианта — а ничего, кроме него, и не будет; жизнь, прошлое можно перечеркнуть, но нельзя переписать заново, бумага намокает, буквы расползаются). Или круги на воде: на лужах, на пруду — вертящиеся как маленькие колесики пошедшего вразнос часового механизма: дождь обнажает под легко смываемой водой пленкой воды этот вхолостую — теперь, без тебя — работающий механизм жизни, все эти цепляющиеся друг за друга шестеренки с уже давно стершимися, смытыми дождем зубьями — под беспорядочное тиканье, хлюпанье капающих мгновений. Или подрагивание, вверх-вниз, листьев, которое никак не спутаешь с поперечным дыханием ветра. И совсем странно: вдруг на глазах тускнеющая, отсыревающая стена дома напротив — как все та же засвеченная ненароком фотопластинка. Но все-таки все это — не сам дождь, это опять всего лишь его следы, его следствия, которые он, опять, так безразлично-жестоко причиняет миру. (И вот этот след на бумаге, на фотопластинке экрана, который сейчас передо мной — след твоего безразличия, твоей невольной жестокости.)
И не только слух, не только зрение: прежде всего осязание, прохладные прикосновения к рукам, к затылку — а того, кто касается, давно нет рядом, даже если она держит тебя за руку — это просто память, воспоминание, все, что от тебя, дождь, осталось, след, последнее. Понимаешь, этот неуловимый некто вовсе не слышим, не видим, не осязаем, его, по сути дела, и нет вовсе, как нет, не было ничего во всей этой выдуманной истории, кроме немых следов на бумаге; это не он, не дождь, звучит, просто проявляется звук, сокрытый в мире, пойми, не его, не дождь мы осязаем — дождь смывает какую-то тонкую оболочку, обертку — всё то же тщетное, напрасное движение обнажения — и мир заполняется осязанием, которое передается тебе, стоит только протянуть руку из-под зонта, стоит только запрокинуть голову, чтобы никто не догадался, откуда эта влага на щеках. Ты вдыхаешь сырость и погружаешься в ту изначальную одушевленность мира, в его не-человеческую чувственность, которая всегда проходит мимо, незамечаемая, скрываемая, в его наполненность шепотом, хлюпаньем, вздрагиванием, потрескиванием теплого темного телефона, холодящим царапаньем твоей руки — она холодна, безразлична, неблагодарна — мир вообще холоден (и лето нынче холодное), хотя и наполняется переливающимся через край, через кромку, через кромешный свет прохладным ощущением, чутьем — когда идет дождь. Нет, не «сущность» мира (скорее «существо», существо-мир), но и не то, что привносится в мир извне: он сам делает себе инъекцию миллиардоигольным шприцем дождя, и тогда обнаруживается нечто жуткое, чужое в нем самом, прохладное, влажно и шумно дышащее сквозь телефонную темноту затянутого облаками неба.
Точно так же, когда летит тополиный пух, вдруг проявляется непростота, неровность, неоднородность пространства, его тайная форма: те странные завихрения, воронки, сгущения, разрежения — пух выдает эту тайну, вернее, не выдает, а задает — вот так и водяные знаки дождя, вернее, водяные, дождевые знаки мира; но здесь не иное измерение, а иное, новое, чужое чувствование, которому нет до тебя дела, которое проходит мимо, вскользь, чуть касаясь простуженными губами.
Но есть еще одно «качество» дождя, его «главное» качество, смысл его пребывания в мире: ведь это — вода, всего лишь рассыпанная вода. Дождь рассеивает воду в пространство, стремясь насытить его, напоить, утолить жажду пространства в глубине — утопить в равномерности слабо колышущегося моря: ведь в толще воды меняется само понятие глубины: здесь не объемность, не перспектива, стягивающая третье измерение внутрь или выталкивающая его наружу, не внезапное выступание башни из нагромождения короткопалых домиков, не мерная вытянутость базилики, но низ, дно, погружение, погруженность в воспоминание о том, чьего голоса не слышно, кто остался на поверхности жизни, в лужах и каплях островов утопающего Петербурга; вода — это и есть чистое неизменное место как таковое, место без времени (лишь на поверхности крутятся бессмысленные часы), это пространство в его мертвом средоточии, недаром прежде представляли себе эфир, как такое вот однородное влажное заполнение мирового объема, самых укромных его уголков. Вода — это пространство уже без измерений, лишь глубина, отдаление, молчание, венецианское кладбище Cан-Микеле — выступающее прямо из погребающей воды ожерелье стен, вернее, опускающееся в нее кольцо, круг дождя на воде.
И вот дождь, безвозвратно приземляющий уже не способный более взлететь тополиный пух вместе с уже никому не нужной тайной иллюзорной близости, дождь, которого нет нигде, который можно увидеть только мертвым, разрезав напополам косым оконным стеклом, так, чтобы каждая полусфера, стянувшись, вобрала в себя обезглавленное пространство вместе со светом, смываемым из мира, уносимым этими свернутыми безответными записками капель, — этот дождь, обнажая бесплотную чувственную наполненность мира тобою (сохраним пристрастную двусмысленность этого местоимения), его, мою одушевленность, наполняет мир в тот же самый миг мертвой водой, ее ничтожностью, уничтожением, сеет неминуемое поражение, умирание любви, смертное распрямление только что ожившего, всего на миг, как и я, пространства, мира.