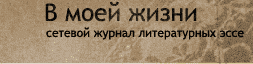америка в моей жизни / 27.05.2003
- Дмитрий Александрович Пригов
Америка как воля и представлениеПриходится, приходится возвращаться к таким банальным идеям и утверждениям, что всякие разборки и выяснения отношений с другим суть разборки и выяснения отношений с самим собой и своим Другим и образом другого. Тем более, когда выяснение происходит на нашей российской почве. То есть, про почву-то американскую, но на российской идеологической и душевно-ментальной почве. Так сказать, иносказательно — на датской почве. А где я вам другую возьму? Нету у меня вам другой. И ни у кого нету. Можно, конечно, отказаться от этих выяснений в пользу не менее банальных описаний картинок конкретного чужого быта, поразивших деталей и встреч с так называемыми интересными людьми. Да интересных людей везде полно. Хотя, конечно, в Америке всякие снайперы и убийцы весьма неординарны, даже по сравнению с необычными российскими душегубами. Но это ведь всё из прессы. Где в Америке в натуре повстречаешься с такого рода артикуляторами национальной особенности и специфики? А в России повстречать таких — не проблема. Но ведь мы не о них и не о России. Мы о российских переживаниях по поводу Америки. Можно, конечно, о более простом и прямо бросающемся в глаза. Но зачем? Действительно — зачем? Все одно — то же самое выйдет. Вот оно уже и выходит. Вот почти и вышло.
*
А между прочим, ведь в Америке, действительно, есть нечто и даже весьма многое, напоминающее Россию и облегчающее травму первого с ней контакта. Ну, во-первых, там многие говорят на английском (я не уточняю, на каком) и обмениваются долларами, столь обиходными в нашем новейшем российском быту. Это облегчает. Во-вторых, приятно нарастающее количество русскоговорящих господ и товарищей и первые заметные черты их самосознания и коммунальной самоорганизации по примеру прочих американских национальных комьюнити. Может, из этого что-то путное и выйдет в виде лоббирования российских интересов и внедрения всякого рода российского культурного с, конечно, таки приятными для деятелей этой сферы популярностью и гонорарами. Потом, конечно, гигантские географические протяженности, долгоодолеваемые пространства, почему-то всегда считавшиеся исключительным приоритетом российского быта и бытия, национальной гордости и идентичности. Это удивляет при первом знакомстве с Америкой, но потом успокаивает и даже как-то расслабляет. Ну и уж не без столь любимых советским идеологическим истеблишментом и пристрастным взглядом нынешней российской требовательной публики контрастов. Но ведь, действительно — существуют. И мы к ним заранее привычны. Однако, даже у нас в центре сколько-нибудь уважающего себя крупного города не найдешь такие образования как нью-йоркский Гарлем. Конечно, конечно, и у нас полно запущенных и забытых Богом местечек, но все-таки не в таком качестве и не с таким пафосом все время воспроизводящегося саморазрушения, как Гарлем и его реплики в других американских мегаполисах. Ну, да ладно. Не нам судить и осуждать.
*
Все эти замечания обретают особый смысл, если иметь в виду, что все время мучающая нас самих и к тому же всех окружающих российская утопия благополучного земного устройства давно уже переместилась из Европы в Америку. И Америка предоставляет достаточно возможностей, чтобы укрепиться в ней, и столь же достаточно поводов, чтобы со злорадным удовлетворением обнаружить ее несостоятельность. Но интересно: что остается неизменным в многовековом существовании сей российской мучительно-слабостной забавы, в разное время проецируемой на разные географические, национальные, государственные и социальные пространства, — так это постоянное ощущение их бездуховности, недостаточности высокого воздуха для русского сакрального дыхания. А и действительно — откуда там ему взяться-то? Ну и, конечно, абсолютное знание, как им там, не ведающим, распорядиться своей случайно выпавшей удачей и устроить все наилучшим образом. И тем же образом, как в противостоянии высокомерной Европе мы натягивали на себя как бы азиатские как бы шкуры, так и в противостоянии бодрой Америке якобы одеваемся будто бы в культуроцентристский европейский смокинг. А ведь в этом что-то есть! А? Нет? Ну, ладно. А все-таки, что-то есть.
*
В общем, комплексы у нас, действительно, европейские. В смысле, обретенные и самой Европой в период после 2-ой мировой. Ну, с учетом, конечно, всего разброса социальных, культурных и научных достижений или провалов внутри самой Европы и отстояния ее от России. То есть, претензии ко всяким там МакДональдсам, Бюргерам Кингам, Кентукки Чиккенам, Майклам Джексонам, Микки Маусам (даже великие русские писатели, в смысле писательницы, в смысле, особенно одна из них, не удерживаются от страшных инвектив в их адрес — так на то они и великие и русские!). Кому еще? Ах да — Голливуду. Что еще? Да много всего, не перечислять же все это.
*
По приезде в Америку, поначалу, возникает иллюзия вроде бы говорения на одном языке (учитывая, что английский ныне не проблема для большей части молодого населения крупных российских городов) и об одних и тех же проблемах. Ну, в большом горизонте единственно выжившей из нынешних утопий — тотальности общеантропологических оснований — так и есть. Все сказанное одним человеком, в принципе, может быть понято другим человеком. Это, конечно, в принципе, так. Но только в самом общем смысле. И если не замечать, что человечество стремительно движется к эпохе новой антропологии. И особенно в центрах нынешних новоантропологических накоплений и сдвигов — мегаполисах, которые гораздо более напоминают друг друга в любых регионах мира, чем страны, их окружающие и подпитывающие. Здесь не место останавливаться на конкретных проявлениях новой антропологии, но они реальны, несомненны и многочисленны.
Так вот, насчет якобы сходства языка и тем. Для описания этой ситуации очень и очень подходит одна метафорическая картинка, воображаемая история, которую как-то обрисовал мне, кажется, художник Илья Иосифович Кабаков, вообще неподражаемый мастер на такие вот притчеобразные истории. Вообрази, говорил он мне (вернее, вообразите, так как мы с ним на Вы), Вы входите на стадион и видите единоборство двух бегунов на длинную дистанцию. Вы со всеми присущими Вам болельщицкими страстью и энтузиазмом, правда, под странное равнодушие остальных трибун, включаетесь в соперничество атлетов. И только когда бегуны пересекают финишную черту, обнаруживаете, что они случайно, к моменту Вашего появления на трибуне, совпали во времени и месте. На самом-то деле один из них на несколько кругов обогнал другого. Он уже закончил бег и уже занимается чем-то другим. А тому еще бежать и бежать. Да и не добежать, может.
Вот так — заключал Илья Иосифович. И тут невольно задумаешься. И я задумался.*
Хотя, конечно, в американской глубинке полно всякого премилого и диковатого.
При моем первом посещении Америки, например, во многих небольших местечках и поселениях о России знали только три факта, или, скорее, если хотите, слова-имени — Спутник, Горбачев и Евтушенко Бабий Яр. Причем, в последнем словосочетании они от меня с удивлением всякий раз обнаруживали, что оно состоит из имени поэта и названия его стихотворения. Думаю, что тотчас же по моему отбытию они опять это спокойно и забывали. И думаю, что с тех пор их информация о России вряд ли существенно приумножилась. Скорее, даже наоборот.
После одного поэтического вечера местная черная поэтесса, узнав, что я из России, подошла ко мне и поведала о своей любви к Пушкину и его поэзии. Это и понятно, это в правилах хорошего тона и теории негритюда. Это вполне объяснимо и даже трогательно. Я отвечал, что тоже благосклонно отношусь к его поэтической деятельности. Да, обрадовалась поэтесса, а Вы с ним лично знакомы? — Ну не то, чтобы очень уж близко... — отвечал я.
В Сент-Луисе на моей выставке-оммаже Малевичу одна стильно одетая пожилая дама спросила меня: А сам художник будет на открытии? — Это я и есть, — с определенной долей скромности отвечал я. — Нет, второй, Малевич приедет? — Не знаю, — засомневался я в ответ.
Впрочем, подобного полно и в других частях света. Это не есть исключительный американский трейд-марк. Женщина-интервьюер из отдела культуры престижной мюнхенской газеты поинтересовалась просвещенностью русских в области западной литературы и поэзии, в частности. Я по наивности стал перечислять ей имена западных классиков, в разное время волновавших мое воображение — Вийон, Гете, Уитмен, Бодлер, Верлен, Рильке, Рембо... Ничего не отображалось в глазах моей собеседницы. Перечисленный список нисколько не взволновал ее, пока она вдруг не остановилась на последнем имени: Да? А чем вас так заинтересовал Рэмбо?
Но, о Господи, а у нас? А у нас что?
Я поведывал молодому московскому кинематографисту, недавнему выпускнику ВГИКа, о дискуссии в лондонском киноклубе после показа фильма по Кафке. Я рассказал, как изысканный и премного интеллектуальный президент этого клуба, высоко оценивший и тонко разобравший по деталям весь фильм, в конце заметил, что самого Кафку-то он и не читал. Ну, что же, бывает. Я все это рассказывал с целью обнаружить перед юношей и особо подчеркнуть вопиющую, немыслимую в наших интеллигентских кругах, бескультурность так называемых западных интеллектуалов.
— Да? — отвечал юный московский кинематографист, — а кто такой Кафка?
Так что на время оставим сравнения в этой области.
*
В общем, в принципе, в Америку уже и не нужно ездить, чтобы знать о ней все, что нужно, что потребно для собственных возможностей. А все невозможное — можно и не узнавать. Все-таки, пока ты не перебрался туда полностью, экзистенционально и психологически не положил ее своим домом, она все равно останется утопией и некой точкой экстраполяционного отбегания с целью обернуться и понять свой собственный дом. Многое своеобразного в подобном взгляде. Много, действительно, забавного, поражающего и поучительного можно углядеть в подобном оглядывании. Не хотелось бы только обрести моментальную обидчивость и компенсаторное высокомерие, столь свойственные малым странам при травмирующем столкновении с безразличием великих государств, или столь же свойственные провинциалу при взгляде на чаемый и недоступный центр. Не хотелось бы оказаться в ситуации, столь часто наблюдаемой мною на всевозможных собраниях, конференциях, дискуссиях и симпозиумах, когда разные посланники разных развивающихся стран в первых же своих словах, обращенных к ничего толком не понимающим американцам, призывают: Немедленно дайте нам миллион (два, три, десять, сто миллионов — в зависимости от амбиций и невменяемости данного конкретного представителя конкретной обиженной страны или нации) долларов! — и затем, быстро минуя малозначительную сердцевину своего выступления, с пафосом завершают: И немедленно же убирайтесь вон от нас, не мешайте нам жить по своему разумению! — Может, они и правы. Даже скорее всего. Но не хотелось бы, все-таки, уподобиться им. Как-то это безвкусно, что ли.
*
А так-то Америку забавно наблюдать. Еще ее забавнее наблюдать сквозь местные слезы и пелену негодования.
Вот та же история с теми же Моникой и Биллом была понята многими у нас на уровне сексуального величия и мужской удачливости последнего. Не припомните ли вы такого несколько балаганного участника подобного же гротескового путча? Янаев — его звали. Был такой. Да и, видимо, где-то есть, но уже вне сферы злостно-пристрастного общественного внимания. Так вот. При его назначении в свое время вице-президентом при тогдашнем президенте Горбачеве на вопрос о его здоровье он под одобрительный преимущественно мужской хохоток зала кокетливо отвечал: А вы спросите у моей жены. Вроде бы не жалуется! Так же, видимо, как до этого на вопрос об его идеологическом здоровье он, скорее всего, отвечал: А вы спросите у моей первичной партийной организации.
Случай с Клинтоном ясно явил миру отнюдь не пикантность сексуальных отношений, впрочем, нисколько не оригинальных, но нынешний статус политика как поп-фигуры, в которую инвестировано столько людских ожиданий, надежд и собственных несвершенных судеб, что ему непозволительно иметь какую-либо иную частную жизнь за пределом определенного положенного ему имиджа. Если ты заявлен как социальный и нравственный эталон, то, пожалуйста, будь добр следовать своему назначению все четыре года.
Если бы Клинтон был заявлен как эротическая поп-фигура, вроде той же Мадонны, то тогда, пожалуй, все бы соответствовало ожиданиям.
В России же, да и в Европе (в особенности, во Франции и в Италии) политик до сих пор является харизматической фигурой, не обязанной ничем избравшей его массе. Скорее, наоборот, она, масса, обязана ему. Посему карьеру и образ политика не могут поколебать никакие там политические, экономические, криминальные и сексуальные скандалы. Они его просто не касаются, если даже не на пользу ему.
Но путь демократии в обществе победивших мегаполисов, информатики и системы развлечений — все-таки путь Америки. Если, конечно, принципиально вставать на этот путь, осознавая все его последствия, порой абсолютно неприемлемые для людей основательной культуры XIX века.
*
В общем, как представляется многим, и не только в России, Америка заскакала куда-то в почти недогоняемое пространство (условно обозначим это куда-то как «вперед») и, как утверждают многие, навсегда. Не будем уж так безоглядно солидаризироваться с их категоричностью. Но все же нечто подобное промелькивает в голове всякого непредвзятого наблюдателя. Но все-таки, повременим, повременим. Буде даже это «навсегда» несостоятельным в горизонте большого исторического времени, в горизонте же недолгой человеческой жизни нормального человека это выглядит вполне реальным, хотя и лишается уже некой, почти метафизической тотальности и мазохистического пафоса. И даже больше, отдельными личными усилиями отдельных точечных личностей вполне можно и включиться в эту ускоряющуюся чуждую жизнь и даже, как показывает опыт этих отдельных личностей, преуспеть в ней. Но мы не об этом.
Ведь все-таки мы живем во времена, когда уже многажды опорочена достаточно архаическая идея, что есть одно замечательное и истинное, а все остальное с той или иной степенью удачливости и соответствия подстраивается под нее. Нам скорее импонирует идея, что нужно быть первым, или хотя бы в десятке, своей номинации. Но вот какая номинация — определить ее и есть большая удача в жизни.
Ситуация же промежуточности, вечного догоняния и шарахания в стороны (но все-таки при определенном критериальном уровне продвинутости) порождает достаточно забавных социо-культурных монстров и кентавров, что, кстати, неплохо смотрится в искусстве.
Так, может, и займемся все искусством? А?